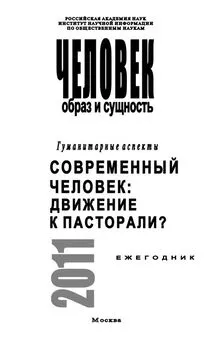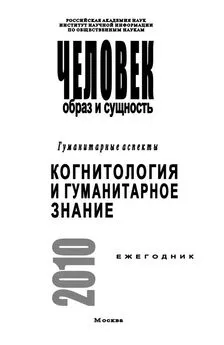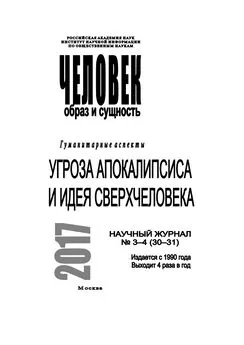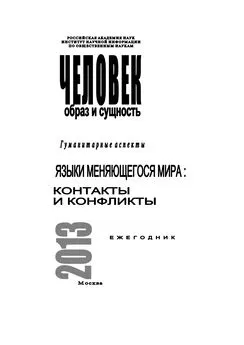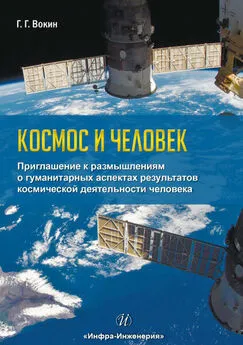Наталья Пахсарьян - Человек. Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Современный человек. Движение к пасторали?
- Название:Человек. Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Современный человек. Движение к пасторали?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Агентство научных изданий»
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:2011
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Пахсарьян - Человек. Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Современный человек. Движение к пасторали? краткое содержание
Для философов, филологов, культурологов, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
Человек. Образ и сущность. Гуманитарные аспекты. Современный человек. Движение к пасторали? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако в когнитивном аспекте, по-видимому, все три подхода не исключают, а органично дополняют друг друга, создавая в целом образ могущественных божественных сил, существ, называемых Сократом в «Апологии» «либо богами, либо детьми богов» (Ap., 15d); он рассказывает об их постоянном позитивном воздействии на разные, как малозначительные, так и важные, события в своей жизни, благодаря чему, в том числе, он не раз смог избегнуть опасных ситуаций и даже смерти (Ap., 19c–20e).
При этом современные исследователи исключают понимание этого феномена как какой-либо субъективной болезненной галлюцинации, «голоса совести» или морального действия чего-либо вроде категорического императива, возвращаясь к сообщениям Платона и Ксенофонта, которые согласно свидетельствовали, что демон обращался к Сократу посредством «звука и знака» (φωνή καί σημεΐον) (см.: там же).
Не менее значительно тонкое, но существенное влияние этих демонических сил стимулирующе проявляется в буколических и пасторальных сценах, репрезентативно описанных Платоном в диалоге «Федр» 10 10 Использован греческий текст в издании: Платон. Федр / Перевод А.Н. Егунова; Ред. греч. и рус. текстов, вступит. статья, комментарии, хронолог., индексы имен и наиб. употр. терминов Ю.А. Шичалина. – М., 1989. – 136 с. (5). Здесь и далее цитаты из «Федра» по этому изданию (см. также: 4). Перевод на рус. язык, кроме оговоренных случаев, мой ( Г.Х .): даже филологически и художественно очень достойные переводы далеко не всегда транслируют лексико-семантические коды и философские интенции специальных текстов.
. Греческий гений – не только философ, но и один из величайших писателей в истории человечества, – в простых и при этом удивительно образных выражениях изображает идиллическую гармонию и взаимопроникающее единство, царившие в то время между человеком и окружающими его природными явлениями: «…Но где же ты хочешь, чтобы мы, усевшись, начали читать? – спрашивает Федр. – Сюда давай свернем, – отвечает Сократ, – и пойдем вдоль Илиса, а потом, где будет мниться (δόξῃ) подходящим, там, в тиши и покое, сядем. – В добрый час, кажется (ὡς ἔοικεν), – замечает его собеседник, – я случился (ἔτυχον) бос. Ты же так всегда. Легче ведь нам идти будет по водице, мочить ноги, и отнюдь не без приятности, особенно в эту пору года и такой день» (228е–229а).
В этом тексте обращает на себя внимание категориальная и понятийная структура, стоящая за материальным каркасом реальности, художественно воспроизведенным Платоном. И прежде всего, гносеология перцепции, маркированная употреблением глаголов «иметь мнение», «мниться» и «казаться», которые в данном локусе предваряют высказывания обоих философов и как бы семантически подчеркивают – все, что воспринимают собеседники, они осознают больше как им только мнящееся и кажущееся, не совсем подлинное; скорее, как объекты мнения, чем нечто безусловно реальное и достоверное, хотя непосредственное чувственное ощущение от телесного соприкосновения с реальными объектами интенсивно переживается акторами, в том числе в аспекте удовольствия и наслаждения.
Не менее интересна имманентная и комплексная, сложная диалектика происходящего, «естественное» единство противоречий и их переход в свою противоположность, которые реально присутствуют в материальных и психических явлениях и выражены использованными Платоном языковыми средствами (в 229а). Так, телесное движение должно смениться (и далее сменяется) физической остановкой и уже интеллектуальным действием (чтением и беседой), жаркий день уравновешивается прохладой воды в речке, затишью вокруг соответствует покой в душах (что, к тому же, выражено одним и тем же словом: ἐν ἡσυχίᾳ). Даже «случайность» того, что Федр оказался босиком, предполагается необходимостью мелководья (по которому пойдут друзья, чтобы освежиться) и «совпадением» погодных условий времени года вообще и дня – в частности. Синтагма же всех обстоятельств этой предустановленной гармонии приносит людям, оказавшимся в фокусе данной волны жизни, огромную эйфорию, наслаждение, что подчеркнуто грамматически двойным отрицанием термина (οὐκ ἀηδές, «не неприятно», 229а), которое акцентирует его значение и концептуально артикулирует, по-видимому, идею благости бытия. Таким образом, красота, истина (существования) и благо оказываются едиными в процессуальности настоящего, собираясь и фокусируясь в человеке.
Такое счастливое событие в мире, естественно, не может произойти само по себе, оно, безусловно, требует какого-то провиденциально-разумного вмешательства и участия, ведь даже само понимание счастливой случайности в греческом языке – это, одновременно, имя богини удачи (Τύχη).
И это божественное, демоническое начало вводится Платоном, но сначала ему предшествуют пропедевтический разговор о взаимоотношениях божества и людей (229b–c, Борей, похищающий Орейтию) и удивительная по красоте пасторальная экфраза, в которой также легко можно увидеть метафоры и метасмыслы: «Сократ: Клянусь Герой, красивое пристанище. И платан этот очень развесистый и высокий, вербы же высота и тенистость прекрасны, она в высшей точке цветения, благоуханием наполняет все место. А вот под платаном и приятнейший родник течет с очень холодной водой, ногой можно удостовериться. Кажется, по изваяниям дев, еще и нимф каких-то, и Ахелоя святилище. Если же захочешь, приятный ветерок этого места мил и чрезвычайно сладостен; по-летнему звонко аукается все хору цикад. Но изысканней всего трава, что в тиши и спокойствии высоко выросла и преклоняющему голову чрезвычайно хороша» (230в–с).
Оставляя в стороне напрашивающееся сравнение Сократа и Федра с платаном и вербой (причем Федр, скорее всего, – верба, символ чистоты и плодородия), необходимо отметить едва ли случайное наличие внутри этого райского земного уголка святилища существ, стоящих между миром богов и людей, которые больше, чем эти, но меньше, чем те, первые (как и демоны), а также целого хора цикад – якобы происшедших по воле муз из умерших от самозабвенной любви к своему искусству певцов (259в–с).
Последовавшее за этим в параллель восторженное чтение Федром произведения Лисия, как кажется, и является таким недостаточно рефлектированным «пением» молодого ума, над которым здесь подсмеивается Платон, а дальше и уже более откровенно будет смеяться Сократ. Поэтому, вероятно, термин, которым Сократ характеризует это сочинение, «демоническое» («δαιμονίως», 234d), амбивалентен: «Хорошо, конечно, составлено, – как будто хочет сказать философ, – лучше, чем получилось бы у обычного человека, но все же далеко не идеально, не божественно». Кроме того, он, наконец, называет своим именем все происходящее и дает имя-понятие тому, что еще только должно произойти позже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: