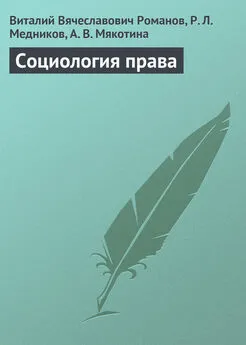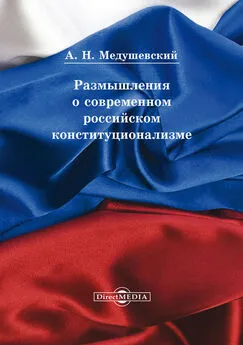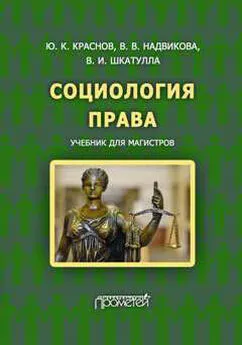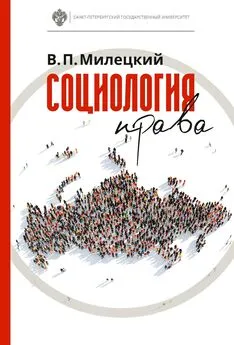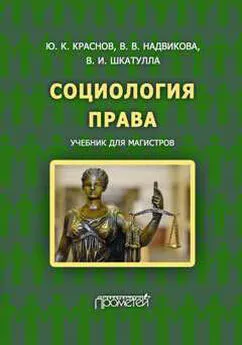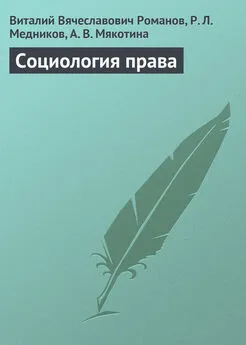Андрей Медушевский - Социология права
- Название:Социология права
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4475-2840-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Медушевский - Социология права краткое содержание
Социология права - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В литературе отмечается, однако, известная неопределенность понятия исламского государства, связанная, во-первых, с различными его историческими прецедентами и, во-вторых, с разным содержанием, которое вкладывалось в это понятие самими исламскими теоретиками. Можно теоретически сконструировать три идеальных типа: арабское государство; исламское государство; азиатское государство. Всякий раз, когда говорим об исламском государстве с III до XX в. мы, – отмечает французский исследователь, – имеем в виду, в сущности, комплексную реальность арабо-исламо-азиатского государства. Идеальную модель исламского государства создал Ибн Халдун. «Homo islamicus» – в определенных случаях идеальный тип мотивации. Исламская мысль не способна дать диагноз и терапию всего круга проблем, которые стоят перед их обществами. Можно говорить о кризисе традиционной исламской идеологии, представители которой вынуждены принять одну из существующих идеологий (исламский либерализм, исламский социализм, национализм и т. д.). Современный ислам, таким образом, есть нео-ислам, который является в большей степени политико-социальной идеологией, нежели теологией или социальной практикой (187).
В то время как в Европе революции следовали за довольно жестоким и продолжительным конфликтом между религиозной и светской властью, в мусульманских обществах этот конфликт не имел места. Светская власть в этих обществах столетиями поддерживалась, по крайней мере в теории, властью священных законов. В отличие от европейских революций, которые имели интеллигентский характер (всегда новая доктрина революции и стратегия использования масс для захвата власти), исламские революции делаются религиозными теоретиками и фанатиками. Это возможно в исламском обществе, благодаря специальным отношениям, которые традиция обеспечивает между лидером и массами (апокалиптичность исламского универсализма). Вот почему, в отличие от развития революций в Европе, революция в исламе не дает императива секуляризации человеческой истории. Установление исламского царства справедливости и власти есть уже политическая ценность, коренящаяся в вере адептов. Подобно католицизму и кальвинизму в европейской истории, исламский фундаментализм способствует возвращению мусульманского общества в рамки коллективистской религиозной традиции, делая это во имя очищения духовной жизни общества (188).
Конфликт идеи правового государства с принципами исламского государства, закрепленными рядом конституций под влиянием иранской революции (Египет, Сирия), является свидетельством неустойчивости ситуации. Ключ к пониманию конфликта – столкновение традиционного мусульманского права с задачами модернизации и рационализации (которая оборачивается европеизацией права, заимствованием западных конституционных норм). Однако эти нормы не действуют в традиционном обществе: возникает порочный круг, возвращающий ситуацию к исходной точке конфликта. Наступление улема против правового государства, возрождение исламского права под влиянием национализма стали характерными тенденциями последнего десятилетия (189). Во многих странах принятие ислама в качестве официальной (конституционной) религии и политической идеологии является вынужденной мерой, предпринимаемой военными режимами в условиях борьбы с силами фундаментализма. Именно армия, бизнес и бюрократия оказываются теми силами, которые сдерживают рывок исламского фундаментализма к власти. Данное отношение к исламу было характерно для многих крупных реформаторов исламских обществ, как Кемаль Ататюрк и Насер, выступавших за модернизацию и европеизацию своих стран вопреки исламским традициям.
Модернизация и европеизация в исламских странах, прежде всего Османской империи, вела, начиная уже с XVIII–XIX вв. к следующему выбору: оставаться на позициях реформ и углублять их при техническом содействии Запада вопреки сопротивлению духовенства (улама) или, напротив, вернуться к фундаментальным культурным ценностям (ислама), позволяющим сохранить идентичность, защитные механизмы культуры, реформировать также сам ислам в целях укрепления мусульманского общества. Обе тенденции подразумевают изменение, однако, первая – более радикальное (путем простого заимствования техники и достижений); другая – более консервативное, связанное с сохранением стереотипов восприятия или даже их укреплением. Первый путь представлен Мустафой Кемалем (1881– 1938) и получил название кемализма, второй – выражается в доктринах исламского фундаментализма.
В условиях глобализации мира исламский фундаментализм оказался идеологией, претендующей на интеграцию ряда деструктивных доктрин и практики в единую идеологию, имеющую признаки тоталитарной. В своей политической риторике он объединяет как собственно традиционные мотивы (борьба Запада и Востока, конфликт цивилизаций, культур и религий), так и различные формы деструктивного социального протеста (национализм, антиколониализм и т. д.). В своем отрицании принципов открытого либерального общества и западной индивидуалистической культуры, он оказался способен принимать крайне агрессивные формы. В этих условиях представляется важным разграничить ислам как религию и исламский фундаментализм (радикальный исламизм) как политическую идеологию. Последняя, подобно другим политическим идеологиям (например, коммунизм, национализм, фашизм), приобретает собственную логику развития, не зависимую от первоначальных содержательных ингредиентов.
6. Глобализация, модернизация и новые идеологические течения: насколько универсальна европейская модель гражданского общества и правового государства
Радикальные изменения связаны с процессом глобализации: среди них качественное изменение коммуникаций; новые конфликты (приобретающие глобальный характер); как следствие – новые идеологии (воспроизводящие на новом уровне обобщения старые идеи). Борьба за контроль над ресурсами, коммуникациями, информацией, образованием и проч. становится социальным основанием глобализма и антиглобализма. Появление антиглобализма как некоторого (пока весьма неопределенного) подобия идеологии, окрашенного левой направленностью, – интересный феномен в контексте данного исследования. В это течение мощным потоком влились все дискриминируемые социальные слои – по экономическому, экологическому, социальному, половому, возрастному параметрам. Функция этой протоидеологии – заменить или радикально модернизировать весь спектр старых элементов критической теории. Здесь много от утопического социализма, марксизма, анархизма и национализма. Антиглобализм (который некоторые рассматривают, впрочем, как разновидность глобализма) поставил ряд острых проблем (точнее воспроизвел стереотипы новых левых 60-х гг.): демографический взрыв (перенаселение) и нехватка ресурсов (в частности, энергетических); концентрация могущества и власти на одном полюсе, рост нищеты и агрессивности – на другом; новый передел мира транснациональными корпорациями (монополиями и олигополиями) и стремление к сохранению контроля со стороны национальных элит и правительств; растущая унификация культуры и образа жизни и увеличение ценности оригинальной национальной культуры; интенсивное движение к демократии и сохраняющаяся угроза тоталитаризма; конфликтность демократии (как правления большинства) и верховенства права (как приоритета прав меньшинств и индивида); новые информационные технологии и все большие трудности доступа к объективной информации; стандартизация и технологизация общества и увеличение значения отдельной личности; наконец, исчерпание ресурсов и грядущая экологическая катастрофа. При решении этих вопросов возрастает значение научной теории, которая противостоит идеологии именно в том, что касается способов объяснения общества и определения перспективных тенденций его развития.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: