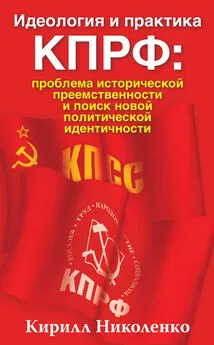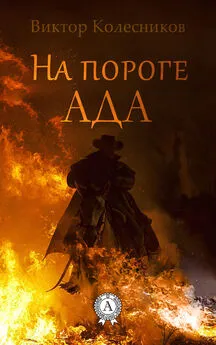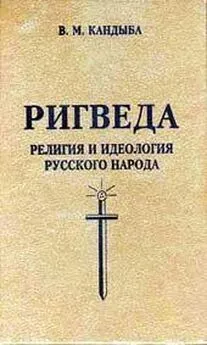Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма
- Название:«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0342-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Шнирельман - «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма краткое содержание
«Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Именно в этих условиях расистские представления претерпели определенные изменения: теперь место «евреев» в них занял обобщенный образ «черных» – если прежде он относился только к выходцам из Африки, то сегодня он наравне с ними включает иммигрантов самого разного происхождения. Все они рассматриваются расистами как нежелательные «Другие» [563]. Наконец, начало XXI в. было ознаменовано тем, что культурный расизм включил в свою обойму исламофобию [564].
Один из главных создателей теории «символического расизма», американский психолог Дэвид Сиерз, видит его стержнем представление о том, что раз многие афроамериканцы до сих пор живут в нищете, несмотря на отмену дискриминационного законодательства, то дело заключается просто в том, что они отказываются усердно трудиться, т. е., иными словами, в их собственной трудовой этике [565]. Такие настроения стали особенно популярны в США в годы правления администрации Рональда Рейгана, когда на этом основании были остановлены многие социальные программы, ранее предназначавшиеся для помощи афроамериканскому населению [566]. Как показывают проанализированные Сиерзом опросы, в течение последних двадцати лет такие взгляды разделяли более половины белых американцев, хотя в большинстве своем они уже не поддерживали положения старого биологического расизма.
По словам П. Тэйлора, новый расизм отличается от старого тем, что «вместо заявлений о том, что нежелательные расы являются низшими, он настаивает на том, что чужаки – просто другие, причем неизменно другие, и что у общества есть право исключить тех, кто не вписывается в его образ жизни» [567].
«Расизм-антипатия» встречается у людей либеральных взглядов, считающих себя свободными от расовых предубеждений и даже как будто сочувствующих жертвам расизма. Они выступают за расовое равенство и протестуют против дискриминации. Однако при этом они сохраняют негативное отношение к чернокожим. Это выражается в том, что такие люди сторонятся жертв расизма, а при встрече с ними соблюдают вежливость, но держатся холодно и отчужденно. В ситуациях, допускающих выбор, они могут проявлять к тем меньше дружелюбия и менее склонны оказывать им помощь в сложной ситуации, чем другим людям. А стремление таких либералов выдерживать принцип равенства диктуется не столько искренней приверженностью к нему, сколько желанием продемонстрировать свою свободу от предубеждений. Поэтому их истинное настроение выявляется в непредвиденных ситуациях, требующих быстрой реакции, где им трудно сдержать свои истинные чувства [568].
Признавая обсуждаемое здесь явление, некоторые авторы понимают его в иных терминах как «изощренные предубеждения» [569]или «утонченные предубеждения» [570]. Голландские социологи предпочитают термин «этноцентризм» [571], Верена Столке пишет о «культурном фундаментализме» [572], Стефен Штейнберг понимает это как «новый дарвинизм» [573], а для Анатоля Ливена речь идет о «защитном национализме», призванном уберечь культурные ценности в условиях массового прилива иммигрантов [574]. Недавно то же самое явление было определено как «неонационализм» [575].
Французский эксперт по проблеме расизма П.-А. Тагиефф различает два типа расизма – традиционный («дискриминационный», или «универсальный») и новый («дифференциальный», или «общинный»). Первый исходит из идеи существования отдельных рас или цивилизаций, расположенных в иерархическом порядке в соответствии с некоей универсальной системой ценностей. Второй переносит упор на групповую (этническую) идентичность, придавая ей абсолютное значение. В этом случае акцент делается не на неравенстве, а на несовместимости культур («духовности») и их неспособности понять друг друга. Если сторонники расизма первого типа озабочены сохранением доминирующего положения «высшей» расы или цивилизации, то сторонники второго опасаются размывания того, что составляет самые основы групповой идентичности, и отчаянно борются за сохранение «чистых культур». Они доказывают, что иммигранты не способны к ассимиляции или интеграции в местное общество и что поэтому они представляют опасность для культурной идентичности местного населения [576]. При этом, как замечает М. Вьевьорка, если в репертуаре «символического расизма» встречаются рациональные аргументы, то «дифференциальный» полностью оторван от реальности [577].
Существенно, что как старый, так и новый расизм неизменно апеллировали к науке. Старый опирался на так называемый «научный расизм», не только представлявший расы четкими биологическими общностями со строгими легкоразличимыми границами, но и настаивавший на тесной взаимосвязи физических качеств человека с духовными [578]. В свою очередь, новый прибегает к культурологическим аргументам, черпая их из багажа современной социокультурной антропологии и дополняя доводами сторонников «политики идентичности». Кроме того, хотя новый расизм и стремится избегать биологического аргумента, он эссенциализирует культурные различия и реифицирует «национальный характер» в такой степени, что фактически речь идет о биологизации культуры [579].
Правда, на поверку «новый расизм» оказывается не таким уж новым [580]. Его прототипом Э. Балибар считает антисемитизм, складывавшийся с эпохи Просвещения [581]. Доктриной «культурного расизма» еще в конце XIX в. руководствовался французский националист Морис Баррес [582], и культурные аргументы («национальный характер», «культурная уникальность», «несовместимость культур») не были чужды «научному расизму» [583]. Они находили отражение в изящной литературе и представлениях некоторых теологов [584]. В тот же период целый ряд характерных для «культурного расизма» аргументов звучал в контексте антииммигрантской риторики и в США [585], а в начале XX в., как мы увидим ниже, их подхватил русский журналист М. Меньшиков.
Тогда в США иммигрантов обвиняли в том, что, соглашаясь на низкую оплату труда и худшие бытовые условия, они вытесняют из трудовой сферы местных рабочих и понижают их уровень жизни, что они не способны к интенсивному труду и своими нравами и поведением разлагающе действуют на местное общество, что они безнациональны и не приспособлены к демократическим порядкам, что они несут с собой анархию и радикализм, что, отличаясь многодетностью, они меняют этнодемографический баланс и обрекают коренных жителей на вымирание, что, наконец, они виновны в упадке местной литературы. Со временем все чаще звучало утверждение о том, что будто бы иммигранты из Южной и Восточной Европы в силу своей культуры, религии или умственных способностей не способны к ассимиляции.
Этот вид расизма, исходивший из идеи несовместимости разных культур, занимал видное место в конструкции английского социального антрополога Джорджа Питт-Риверса, убежденного в том, что раса играла основополагающую роль в истории и культуре. В своей книге «Столкновение культур и контакт рас», вышедшей в 1927 г., он анализировал демографические и культурные последствия колониализма и доказывал, что переход на чужую (европейскую) культуру не идет на благо местным народам, ибо они не способны сделать ее своей. Он отождествлял расу с этнической группой и фактически стоял на позициях социодарвинизма, но упадок местных народов объяснял не столько их биологическими, сколько культурно-психологическими качествами (в частности, разными «ментальностями»), якобы не позволявшими их успешной адаптации [586]. Однако свою необычайную популярность такие аргументы обрели действительно в последней трети XX в., когда открытая апелляция к биологическому расизму утратила былую силу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: