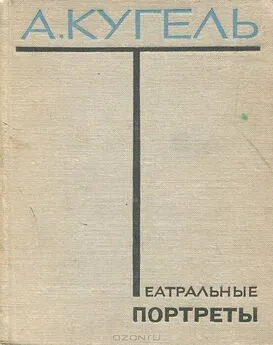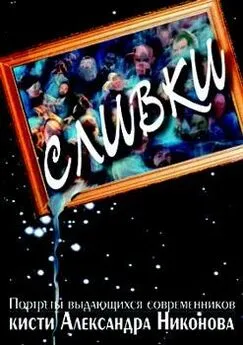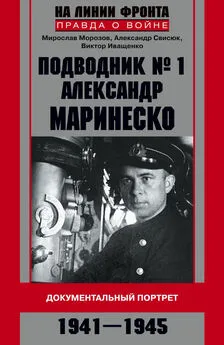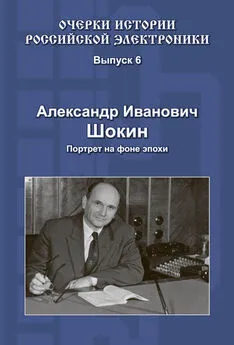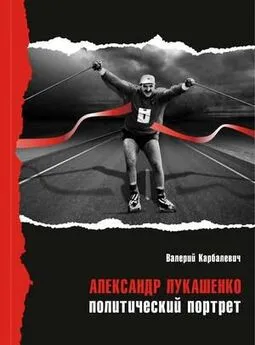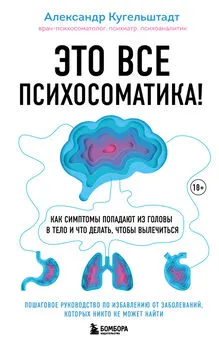Александр Кугель - Театральные портреты
- Название:Театральные портреты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1967
- Город:Лениград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кугель - Театральные портреты краткое содержание
Театральные портреты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Любопытно, что сама Ермолова была до крайности недовольна своим исполнением этих ролей в Петербурге. Мало того, что недовольна — она была потрясена, огорчена до глубины души.
Мой приятель и вместе с тем большой друг Ермоловой, чуть ли не воспитывавшийся у нее в доме, покойный Н. Ф. Арбенин[93] (он же и переводчик «Сафо»), рассказывал мне, что, зайдя в уборную Ермоловой в антракте, он застал ее уткнувшей голову в стену и горько плакавшей. «У меня нет настроения, нет настроения!» — {122}говорила она Н. Ф. Арбенину. И когда он сообщал мне это, то у него самого дрожала щека от волнения.
И как это удивительно, как необыкновенно!
Великая актриса, столько лет пробывшая на сцене, кумир Москвы, создательница множества ролей, плачет, как дитя, от того, что нет настроения, и роль не идет по желанию! Роль не идет, и, может быть, потому, что она на этот раз не шла, чуткой душе артистки открылась также известная ходульность и старофасонность грильпарцеровского произведения, а шероховатости переводного стиха, которые как-то не замечались, когда высоко поднималась волна вдохновения, сейчас торчали, как острые, частые и склизлые подводные камни…
Из моих первых впечатлений от Ермоловой я вынес какой-то смутный неопределенный образ. Я не мог не видеть большого дарования, но было ясно, что я не нахожу формулы для этой артистки, и, каюсь, был и оставался к Ермоловой хладнокровен. И вот, помню, снова спектакль в Петербурге, опять в пользу Театрального общества, на этот раз в Мариинском театре, с Ермоловой в роли леди Макбет и Южиным — Макбетом. Как сейчас, встают в памяти все мельчайшие подробности спектакля.
Я сидел довольно далеко, и плохой бинокль при сильной близорукости служил не очень надежным для меня подспорьем. Но — поразительная вещь! — стоило Ермоловой войти на сцену и заиграть, и я видел ее с величайшей отчетливостью, хотя, быть может, оптически и не видел очень ясно.
Но было нечто большее, чем физиологическое зрение, — было чувствование артистки моей душой, охват ее внутренним зрением, и я видел ее так, словно она была от меня в двух шагах. Слова «хорошо», «прекрасно», «художественно» совершенно бессильны передать {123}впечатление. Это не те слова, и вообще я не знаю, какие тут нужны слова. Я бы сказал разве: была истина. Или еще лучше: было полное обладание минутой, полное проникновение в сущность — как будто рентгеновские лучи проникли через непроницаемые, твердые, непрозрачные предметы и волшебством открыли секрет потустороннего мира.
Вот Ермолова смотрит на руку, разглядывая на ней чудящиеся ей пятна крови. Она смотрит, и мне кажется, что я вижу эту кровь доброго Дункана, размазанную по руке и выцветшую, фиолетовую по краям, с желтыми ободками. Совершенно так, как индусский факир бросает вверх палку, а вы видите змею, — так эта белая, чистая, красивая и благородная рука Ермоловой, набеленная и напудренная, представляется вам выпачканной кровью и грязью. Сколько времени длится это наваждение — не сумею сказать. Это и очень долго, если судить по силе внушения, и очень коротко, потому что ненасыщенная душа хочет еще продолжения.
Выдержать паузу, немую сцену — одна из самых больших трудностей сценического искусства. В летописях русского театра сохранилось воспоминание о паузах Ф. П. Горева, которые почитались, так сказать, классическими. Самой длинной и замечательной паузой считалась пауза Горева в «Расплате» — плоховатой пьесе Ракшанина. Пауза, точно, была длиннейшая, то есть такой она казалась, и Горев ее очень искусно играл, наполняя безмолвие сцены весьма многочисленными жизненными подробностями. Но уже одно то, что вы видели эти подробности и хладнокровно разбирались в них, доказывало некоторую, искусственность построения самой паузы. «Пауза» Ермоловой, в сущности, и не была паузой, в тесном смысле слова, но была немой игрой, более сильной, чем словесная, и по теням лица {124}Ермоловой можно было прочитать ее жизнь, ее трагедию, ее угрызения, колебания и кровавые страницы воспоминаний.
Помимо этой изумительной зрительной иллюзии, поражал самый звук голоса Ермоловой.
У Ермоловой прекрасный, ровный, мягкий и мощный грудной голос. Но и голос ее в роли Макбет был как будто не тот, какой я слышал ранее. В нем появился свет — иначе я не могу выразить своего впечатления. Представьте, вообразите голос, который не только звучит, но и светится; голос, которого звуки вылетают, как бы окруженные золотыми светящимися ободками; что самые сцена и зрительная зала кажутся вдруг наполненными, переполненными, пронизанными светом и яркими лучами. И этот странный свет не только лучист, но и необычайно тепел. Все это фантастично, быть может, но ведь всякое внушение фантастично, а между тем оно бесспорно для обманчивых наших чувств.
Нечто подобное испытывал я позднее, когда смотрел Ермолову в Марии Стюарт, но все же не в такой мере. Самое вдохновение имеет свои градации, как и сила внушения, и в леди Макбет Ермолова превосходнее всего, что сама создала в самые счастливые минуты своего творчества.
По мере того как я знакомился с Ермоловой и ее лучшими созданиями, все яснее обозначалась главная черта ее духовной природы.
Это — необыкновенное благородство ее искусства. Такого благородства на сцене не дает и не давала ни одна актриса.
Такого благородства я не видывал, не встречал. Если Сара Бернар — воплощение артистического изящества и французского академического стиля; если Дузе — раненая и истерзанная душа современной женщины, {125}такая близкая нам, родная и понятная, то Ермолова — какая-то гостья из старых классических стран, из счастливой Аркадии, какая-то Диана-Артемида с мудростью Афины и теплотой, сердечностью Пенелопы. Только в отдаленной древности были такие женщины — ясные, цельные, высеченные из единого куска мрамора, как статуи Фидия. Искусство Ермоловой до того благородно, до того проникнуто ясным духом, что оно органически, так сказать, не способно впадать в случайные погрешности переигрывания или сценической суеты, или нарочитости. В этом смысле особенно показательным для меня был последний спектакль, который я видел с Ермоловой, — «Стакан воды» Скриба, в Московском Малом театре. Ермолова необычайно хороша в роли королевы, хотя, казалось бы, года ее уже не те, и вследствие этого можно было думать, что в исполнении будут черты некоторой натянутости и напряженности.
Но тут сказалось нечто большее — монументальная правда Ермоловой, все неизмеримое благородство ее сценической натуры. Она играла с Южиным и Лешковской[94] — двумя превосходными художниками, отменного вкуса и мастерства. И в дуэтах, которые она с ними вела, обнаружилась грань, отделяющая талант от гения, мастерство от величия. В то время, например, как Лешковская, ведя сцену с Ермоловой, играла, и вы чувствовали поэтому, что вот тут, на какую-то четверть секунды ускорено, а тут замедлено, что здесь чуть-чуть переложено краски для эффекта, и что, во всяком случае, это эффект, сценический truc[95], — Ермолова была во все моменты равна себе, равна роли, играла с той божественной натуральностью, с какой поет соловей. {126}Ее интонации были абсолютно верны, ее жесты абсолютно истинны, ее мимика абсолютно правдива. Именно потому, что пред вами была абсолютная истина искусства, выраженная в совершеннейшей форме благородства и умеренности, — так ясно чувствовались те степени совершенства и несовершенства, которых достигала и до которых падала игра ее партнеров. Ермолова казалась совестью, не лгущим зеркалом искусства, и когда она произносила какое-либо слово или делала какой-либо жест или какое-либо движение, в ответ на искусную, но не абсолютно верную реплику сидевшей с ней рядом Лешковской, то это производило порой впечатление какой-то мудрой корректуры, действующей примером художественного благородства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: