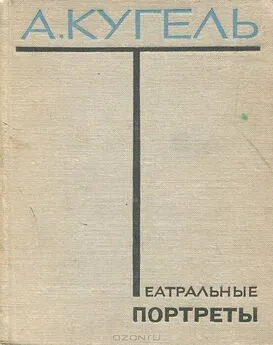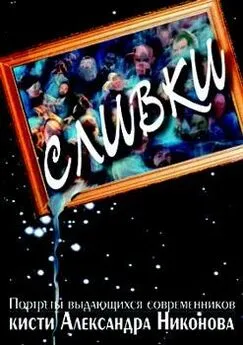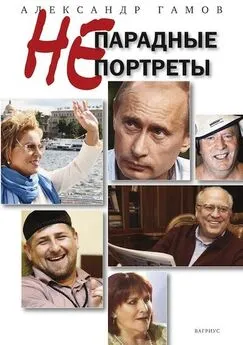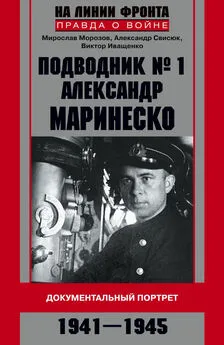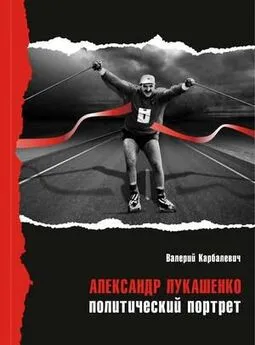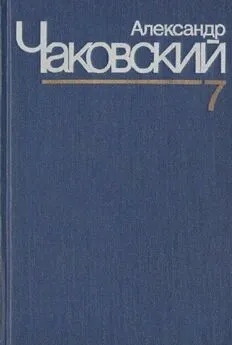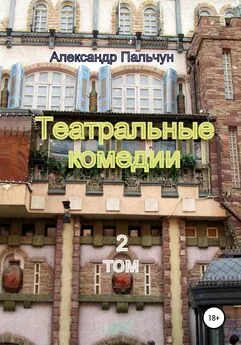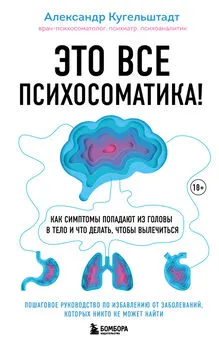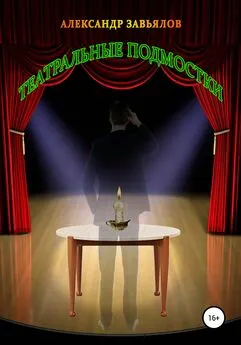Александр Кугель - Театральные портреты
- Название:Театральные портреты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1967
- Город:Лениград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кугель - Театральные портреты краткое содержание
Театральные портреты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Mon pauvre mari n’s pas eu зa,
Pas зa, pas зa, pas зa[326]…
Такой же стыдящейся и потому особенно греховной, кокетливой и потому скромной, стесняющейся и оттого такой пикантной была Жюдик во всех ролях, в каких я ее видел, — вплоть до «Mam’zelle Nitouche»[327], «Лили» и пр.
Она возвратилась снова в Россию, и я снова имел величайшее удовольствие ее слышать и видеть — еще более потолстевшей, но в толщине своей сохранившей {340}неизменный, присущий ей тон добродушной гривуазности. Кроме опереток и комедий, она выступала также в шансонеточном репертуаре, и это было, пожалуй, самое замечательное. Так, как Жюдик, никто шансонеток не «сказывает», да и не сумеет сказать их. Во-первых, у Жюдик был очаровательный, мягкий, теплый голос, чудесно поставленный, сохранивший свои милые модуляции и свою теплоту до конца дней ее. Во-вторых… но во-вторых, и в‑третьих, и в‑четвертых, и в‑пятых, Жюдик была артистка с ног до головы, вся — поэзия, ум, мера, вкус… Она умела вплетать нежную фиалку лирики в самые яркие букеты нескромностей. Иногда просто хотелось плакать от ее песенок. Например, «La mousse». «La mousse» — значит «пена» или «мох». Песенка передает историю одной девушки в четырех куплетах, причем каждый раз, поочередно, la mousse — означает либо одно, либо другое. Местами очень фривольно, но у Жюдик все выходило поэтично. Наконец свершилось. Поскользнувшись «Sur la mousse» la pauvre fille[328] полетела… У нее теперь есть все: поклонники, бриллианты, кареты. Она пьет шампанское и, поднося пенящийся бокал к устам, в игре золотистых пузырьков словно читает всю свою жизнь, всю тетралогию «de la mousse», приведшую ее сюда. И не давая ни одной жалобной ноты, не морща прелестного лица, только освещая куплет какой-то затаенной грустью женского сердца, Жюдик так пела последний куплет, что вы словно видели чьи-то тонкие, нервные женские пальцы, сжимающие хрусталь бокала, и затуманенные глаза, вникшие в видение пены, и маленькие слезинки упадавшие туда, на дно стакана, и наконец — решительное, быстрое {341}движение в сторону отрезвляющей действительности… Не надо, не надо. Будем пить, петь и веселиться…
Меня больше всего пленяла именно эта тончайшая лирика Жюдик. Помню еще ее шансонетку «Plus loin» — «Подальше». Это была зовущая песня отречения, томный отказ, равносильный согласию…
Конечно, Жюдик была очаровательна и в другом, более тривиальном жанре. Такова, например, ее шансонетка «Ne me chatouillez paz», «Не щекотите меня», в которой она изумляла своим серебристым смехом, падавшим, как каскад бриллиантовых брызг. Или другая: «Mais hors du mariage зa fait toujours plaisir» — «Вне брака это всегда доставляет удовольствие». Содержание шансонетки, да и форма ее, да и музыка, не представляют ничего интересного, но Жюдик умела в этой тривиальной безделке давать, так сказать, суммарную философию буржуазки.
Если не ошибаюсь, в 1900 году я слушал и смотрел Жюдик в последний раз. Она спустилась до кафешантана. Это было в парижском «Alcazar d’йtй»[329], в Елисейских полях. Рядом с «Альказаром» был другой кафешантан — «Ambassadeurs»[330], где подвизалась в то время модная, находившаяся на зените славы, дама парижских бульваров, «enfant du pavй»[331] и Батиньоля — Иветта Гильбер[332]. Жюдик была привлечена для «противовеса». И точно, нельзя себе было представить большего контраста. Та — худая, тощая, длинная, с некрасивым, но смышленым лицом, носящим следы {342}упорной и нездоровой борьбы за существование, в экстравагантном белом платье с черными перчатками, напоминавшими о какой-то остроте жгучих бодлеровских ощущений. И Жюдик — очень толстая (ей было уже пятьдесят четыре года!), затянутая в корсет, все-таки красивая, все-таки элегантная, вся какая-то оттуда, «de la haut»[333], с высот Трианона и Версаля, вся продукт утонченнейшей культуры, маркиза, воспитанная на письмах madame de Sйvigny[334], упитанная сливками и знаменитыми «бриошами» версальских булочников, в то время как та, тощая, невольно наводила на мысль о дурном хлебе, недостатке воздуха и света и тесных жилищах рабочего квартала…
Я оглянулся на публику. Увы, это была больше публика иностранцев. Рядом в ложе сидели, по-видимому, американцы, толстые и красные, сосавшие набалдашники щегольских тростей. Жюдик пела о каких-то далеких временах, когда нежная буколика Вергилия сплеталась с пленительным колоритом Ватто[335]. «Ah, c’etait bon!»[336] — вспомнилась мне фраза бабушки — Жюдик из «Лили»[337]. Да, все это было прекрасно — этот нежный узор догоревших огней. Но она явно расточала дары недостойным, и это читалось на мещанских лицах принцев долларов.
Все это прошло. Нет больше свирелей. Нет пастушеских идиллий, нет далеких томных, лирических призывов, ни серебряного смеха простосердечной «petite bourgeoise»[338], ни грациозных па, ни волнистых оперений, {343}ни писем madame de Sйvigny, нет даже Мими Pinson. Помните у Мюссе?
Mirai йtait une blonde,
Une blonde que Ton connait…
Elle n’a qu’une robe au monde
Et qu’un bonnet[339]…
Легкий ветер приносил с противоположной стороны, от конкурирующего «Ambassadeurs», эхо громких аплодисментов: Иветта сказывала про деревенскую девушку, продававшуюся сначала за 5 франков, а потом все за большие и большие суммы, и всякий раз при этом деловито замечавшую: «Это на корову для моей бедной матери…»
— Анна, перестаньте! — хотелось сказать Жюдик. — Неужели вы не слышите? Тощая корова пожрала тучную… Ваше время прошло.
{344} Два критика
(А. И. Урусов и А. Н. Баженов)[340]
Писавших о театре и по поводу театра писателей чрезвычайно много. Редко кто не пишет о театре. Но театральных критиков, в тесном значении этого слова, очень мало, в особенности, если не считать театральными критиками также и тех теоретиков театрального искусства, которые обратились к выводам теории, потому что были практическими строителями театра. В том смысле, как мы понимаем «театрального критика», едва ли таковым можно считать даже Белинского или Аполлона Григорьева. Для них театр был одной из областей искусства, {345}где они чувствовали себя так же хорошо, как и в других областях, и путешествие по всем этим областям служило для них поводом и случаем высказать волнующую их философскую или общественно-социальную мысль. Самая широта философского и общественно-исторического обобщения, составляющая наиболее сильную и пленительную черту их критических дарований, отчасти мешала им стать «театральными критиками» — специалистами, у которых, как известно, «полнота всегда одностороння». Большим кораблям — большое плавание. Но театральный критик, в том значении, которое мы придаем этому понятию, подобен каботажному судну, совершающему постоянные рейсы вокруг своего побережья и потому в совершенстве знающему все его изгибы и закоулки. А как известно, именно на этих мелких и часто плоскодонных суднах плавают самые лучшие и зоркие лоцманы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: