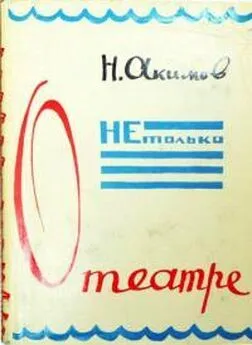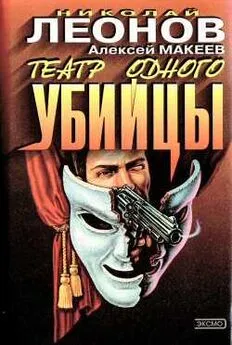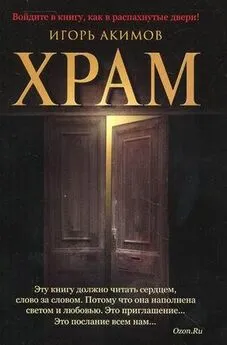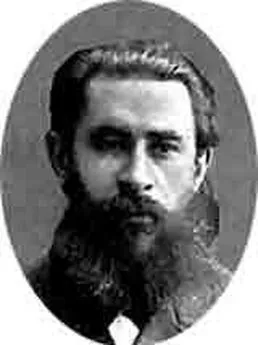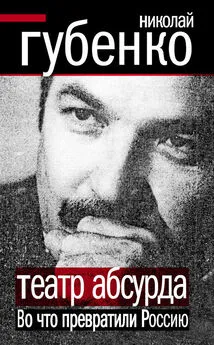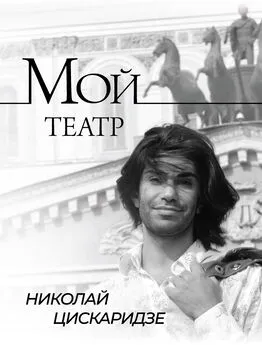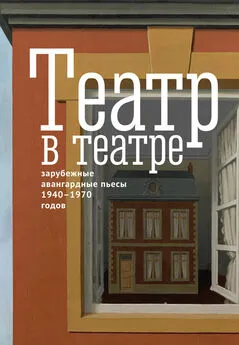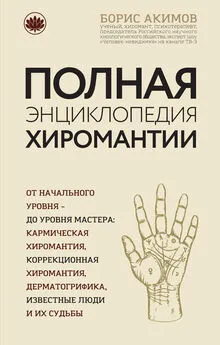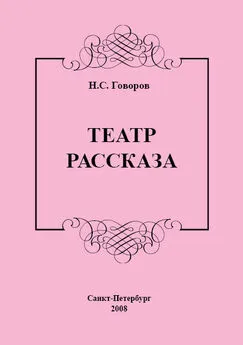Николай Акимов - Не только о театре
- Название:Не только о театре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1966
- Город:Л.; М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Акимов - Не только о театре краткое содержание
Николай Павлович Акимов (3 (16) апреля 1901, Харьков — 6 сентября 1968, Москва) — советский театральный режиссёр, сценограф, педагог, художник (портретист, книжный график, иллюстратор, плакатист, кино), публицист. Народный артист СССР (1960). С 1935 по 1949 год и с 1956 года был художественным руководителем Ленинградского Театра Комедии (ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Н. П. Акимова).
Не только о театре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Припомните примеры из вашей повседневной практики. Каждый раз, когда вы делаетесь объектом внимания людей, — когда вы входите в вагон трамвая, поезда или троллейбуса, когда вы садитесь на скамейку в сквере, где уже сидят другие люди, вы, ощущая на себе их взгляды, немедленно оцениваете: как они на вас смотрят, как они вас оценивают, — и это никогда не бывает для вас безразлично.
Если же вы вступаете с ними в прямое общение — спрашиваете о чем-либо, просите подвинуться и т. д., то из характера их ответов вы делаете еще более полный вывод о том, как вас воспринимают.
Здесь необходимо сделать отступление и коснуться вопроса, который изучают в театральных школах, но который полезно знать всем и каждому, а не только актерам.
Дело в том, что язык как средство общения людей состоит не только из слов, предложений, фраз и периодов, но и из той формы произношения слов и предложений, которая называется интонацией.
Каждому актеру известно, что интонация сама по себе является могучим выразительным средством для передачи мысли, что одно и то же слово, сказанное с разными интонациями, приобретает и разный смысл. Что богатство выразительной речи и на сцене и в жизни достигается умелым использованием интонации в приложении к верно найденным словам. В системе Станиславского этот вопрос удачно определяется формулой «текста и подтекста». Здесь текстом считаются все произносимые слова, а подтекстом — мысль, которую нужно выразить, применяя все возможные выразительные средства. Из театральной практики мы знаем, что подтекст всегда богаче, полнее и сложнее текста. Что один и тот же текст может служить для выражения совершенно различных подтекстов (мыслей). Что такие простые тексты, как одно слово «да», при помощи различных интонаций могут иметь самые различные значения — и вопроса, и недоверия, и утверждения, и признания.
В современной орфографии есть некоторые средства передачи интонации — знаки вопросительный и восклицательный, однако они явно недостаточны для выражения всех нужных подтекстов.
Очень важно то обстоятельство, что всеми тонкостями интонаций, передающих более сложный и подробный подтекст, чем он мог бы быть выражен только в тексте, владеют не только актеры, но и все люди вообще.
Основное и единственное различие между применением интонации в жизни и на сцене в том, что актер специально находит интонации, способные обогатить на сцене тот текст, который ему нужно будет произносить, а в жизни чаще всего мысль человека одновременно выражается в нужных словах, сказанных с нужной интонацией.
И в жизни делаем мы это обычно не задумываясь, хотя иногда и очень полезно задуматься о том, как мы это делаем и что из этого иногда получается. Но если каждый человек естественно для себя вкладывает в свой разговорный текст при помощи интонации гораздо больше, чем сам текст значит, то и собеседник его так же закономерно воспринимает в речи, направленной к нему, не только текст, но и то же самое богатство подтекста, которое было вложено товарищем в свои слова.
Некоторые люди безуспешно пытаются это отрицать. Нередко приходится слышать, как один из бранящихся бросает другому: «А я вам никаких обидных слов не сказал!» А обидеть можно и без обидных слов, не текстом, а подтекстом.
До сознания большинства людей уже дошло, что чрезмерное повышение голоса может считаться обидным: «А вы на меня не кричите!» Тут уже нет претензий к тексту, а только к силе звука. Но обидеть можно, оказывается, и произнося вполне цензурный текст, не повышая голоса, и интонация будет при этом все-таки обидная. Таковы неограниченные возможности подтекста и вытекающая из этих возможностей ответственность.
Главный вывод из этого отступления в том, что каждый нормальный человек воспринимает своего ближнего и его отношение гораздо тоньше, точнее и подробнее, чем ближнему это кажется. Это подробное восприятие человеком окружающего мира, людей и производит на него гораздо более интенсивное впечатление, чем обычно считают.
Представьте себе самый обычный случай: вы в чужом городе, ищете нужную вам улицу, встречаете прохожего.
Вы. Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Горького?
Прохожий (останавливается, улыбается). О! Это совсем недалеко. Все прямо, потом первая направо. Там на углу сквер, вы сразу увидите!
Вы. Спасибо.
Прохожий. Не стоит. (Еще раз улыбается и удаляется.)
В этой несложной сцене содержится очень много существенного. На ваш оклик прохожий остановился и обратил к вам приветливый, вопрошающий взгляд. Вам уже приятно, что незнакомый человек смотрит на вас с симпатией. Он рад вам сообщить, что это недалеко. Он сообщает вам дополнительную примету, которая облегчит вам нахождение нужной улицы. Он подчеркнул, что его не стоит благодарить, и вы расстаетесь с ним, не только узнав, куда вам идти, но и с общим приятным впечатлением от этой случайной встречи с человеком, которого вы, вероятно, никогда больше не встретите.
Но возьмем другой вариант этой сцены.
Вы. Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Горького?
Прохожий (не останавливаясь, через плечо). Чего? (Хотя он вас и расслышал, но ему лень сразу ответить.)
Вы (смущенно). Простите, я спросил, как пройти на улицу Горького.
Прохожий (совсем отвернувшись). Первая направо. (Ушел.)
Практически вы, конечно, узнали дорогу, но вы остались с ощущением, что почему-то внушили неприязнь этому человеку, что он не одобряет ваше желание пойти на улицу Горького, что вы вообще вызываете у встречных отвращение и что спрашивать дорогу у занятых людей — неделикатно.
Может быть, это ощущение скоро пройдет и даже наверное пройдет, но какая-то минута в жизни у вас испорчена. А ведь в этом варианте мы разобрали самый обычный, самый безобидный случай.
Автор этих строк вспоминает, как двадцать лет назад на вполне учтивый вопрос об улице в чужом городе, интеллигентный прохожий, правда, остановился, но затем с яростью произнес: «А вот когда вы сами скажете мне, как туда пройти, тогда и я вам отвечу!» Причина его внезапной ненависти осталась для меня тайной до сих пор, но неприятное впечатление от такого ответа запомнилось, как видите, надолго.
Когда мы касаемся таких коротких, мимолетных встреч с людьми, с которыми, как говорится, детей не крестить, то может показаться странным, что этому стоит придавать какое-либо значение. Однако все эти короткие общения гораздо сильнее воздействуют на нас, чем думают те люди, которые делают это общение неприятным. Причина здесь — в одном качестве человека, которое является непременным для каждого чувствующего и мыслящего человека, — в его фантазии. Было бы неверно полагать, что этой способностью наделены только «фантазеры»: поэты, артисты, изобретатели и т. д. Каждый человек невольно продолжает и завершает в своем: воображении все мелкие проявления его ближнего, воспринимаемые им при встречах, и на этой способности фантазирования и строятся наши «первые впечатления» и сила их воздействия на наше настроение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: