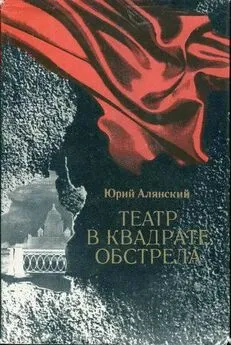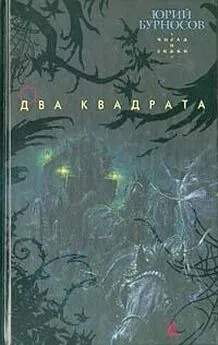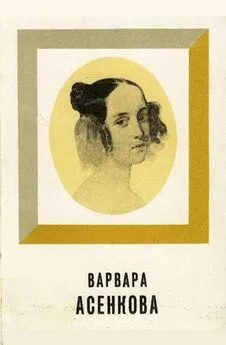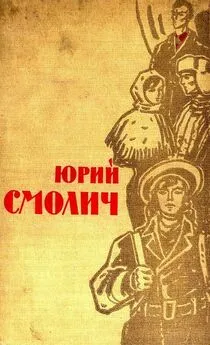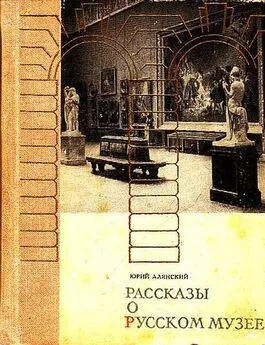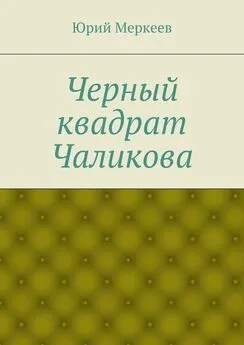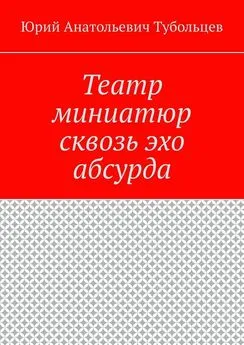Юрий Алянский - Театр в квадрате обстрела
- Название:Театр в квадрате обстрела
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство, Ленинградское отделение
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Алянский - Театр в квадрате обстрела краткое содержание
Эта книга посвящена искусству осажденного Ленинграда, духовному сопротивлению ленинградцев в годы Великой Отечественной войны и вражеской блокады. В числе героев книги — муза героического народа поэт Ольга Берггольц; великий композитор Дмитрий Шостакович, автор Седьмой, Ленинградской симфонии; драматург Александр Крон, создавший тогда пьесу о ленинградской обороне; режиссер Александр Пергамент, руководитель Театра Балтийского флота; артист Владимир Честноков, а также многие другие актеры, музыканты, художники — каждый из них совершил в те дни подвиг.
Театр в квадрате обстрела - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Герой комедии Ростана — один из тех немногих, но всегда глубоко несчастных людей, на долю которых выпадает высокая честь быть лучше и умнее своих современников. Чем выше над толпой поднимается голова такого человека, тем больше ударов падает на эту голову…
Пьеса Ростана возбуждает кровь, как шампанское вино, она вся искрится жизнью, как вино, и опьяняет жаждой жизни».
Мое поколение познакомилось с «Сирано» в последних числах апреля сорок первого года, когда на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля по пьесе Ростана, поставленного замечательным режиссером Владимиром Николаевичем Соловьевым.
До войны оставалось семь недель. Но мы не ждали войны, во всяком случае, мы, молодые люди сорок первого года. Осада Арраса выглядела для нас на сцене не слишком драматично, скорее театрально, хоть это и была одна из лучших сцен спектакля, его центральное звено. Мы улыбались, слушая жалобы голодающих солдат капитана Карбона де Кастель-Жалу, попавших в окружение:
— Я голоден!
— Я умираю!
— Я съел свой собственный язык!
— Есть дайте что-нибудь!..
Слова «окружение», «голод», «хлеб» за сто дней до блокады звучали для нас отвлеченно.
А когда после пятого акта в последний раз падал занавес, на авансцену вместе с Сирано, Роксаной, Ле-Бре и другими героями спектакля выходил высокий сутулый человек с бородкой и неловко кланялся, рассеянно глядя в зрительный зал. Длинный пиджак висел на нем небрежно. А папироса была засунута в рукав.
Постановщик спектакля Соловьев. Режиссер. Театровед. Педагог. Переводчик, знающий четыре или пять языков. Страстный энтузиаст театра. Соратник и единомышленник Мейерхольда. Один из блестящих ученых советского театра, чье имя стоит в одном ряду с именами А. А. Гвоздева, С. С. Мокульского, И. И. Соллертинского. Обладатель лучшей тогда в Ленинграде библиотеки по театру на многих языках мира.
Он вырос в театре. Мать — помощница костюмерши в балетной труппе. Отец — сотрудник монтировочной части театра. Тетка — костюмерша оперной труппы. Игрушкой служил ему театральный макет. Вера в искусство театра, фантазия, наивная непосредственность родилась в детстве и осталась до конца жизни.
Когда Театр имени Ленинского комсомола пригласил его ставить «Сирано» и настал первый день встречи с актерами, участниками будущего спектакля, Соловьев пришел в театр торжественный, оглядел лица собравшихся артистов и начал свою режиссерскую экспозицию так:
— В школьном учебнике французского языка Марго приводится анекдот. За стаканом вина, понимаете, заспорили два солдата — француз и испанец. Спор, понимаете, шел о причинах воинской отваги. «Мы, испанцы, деремся за честь, — говорил испанский солдат, — а вы, французы, за деньги». — «Что поделаешь, — отвечал француз, — каждый дерется за то, чего ему недостает».
Таким — остроумным, храбрым, изящным — предлагал вывести Сирано на нашу сцену режиссер Соловьев. Он знал Францию, где никогда не бывал, досконально. Мог бы провести вас по Парижу, не заблудившись — план города подтверждал его правоту. Читал в подлиннике французские книги семнадцатого века, отыскивая в них приметы времени Сирано де Бержерака, подробности костюма, вооружения, обычаев и нравов. Понятно, что такому художнику без особого труда удалось увлечь труппу своими планами, влюбленностью в героя.
Заглавную роль будущего спектакля должен был играть артист Матвей Павликов. По болезнь актера потребовала замены. Кто-то предложил Честнокова. В первый момент Соловьев удивился:
— Что вы, ведь Володя, понимаете, Кристиан, а не Си, понимаете, рано!
Но вскоре изменил первоначальную точку зрения и самым деликатным образом просил Честнокова взяться за роль Сирано, о какой любой актер мог только мечтать.
— Это мой, понимаете, последний спектакль, Володя, — говорил он Честнокову.
— Почему же последний, Владимир Николаевич? Это же чепуха! Вы же в расцвете возможностей!
— Последний. Я чувствую, понимаете, что ничего больше не поставлю…
Непонятно, как мог он это знать, предчувствовать. До войны и до смерти действительно оставалось меньше года. Кто мог предвидеть это? К тому же Соловьев только казался стариком. Бородка, сутулость и частое покашливание усугубляли это впечатление; ему было всего пятьдесят три года… Но он знал.
Он читал Честнокову вслух сцены из пьесы по-французски, сравнивал различные переводы, предпочтя, наконец, перевод своего однофамильца и тезки, поэта и драматурга Владимира Соловьева, автора исторических пьес «Фельдмаршал Кутузов» и «Великий государь». Часами простаивал у подмакетника, включал и выключал свет, переставлял предметы, искал мизансцены.
— Как вы думаете, Володя, кого из людей нашего века, понимаете, напоминает Сирано? Он, понимаете, бунтарь и смельчак…
Честноков задумался, а Соловьев, не дожидаясь ответа, сказал:
— Маяковского!
На премьере Соловьев сидел где-то в зале и громко кашлял. Актеры ворчали:
— И чего он раскашлялся! Собственный спектакль портит!
А у него была астма. И кашлял он от волнения.
И вечером пометил в записной книжке: «Занавес давали 12 раз». Значит, успех. Значит, последний его спектакль не посрамит прожитой жизни.
4 июня 1941 года — в записной книжке: «Сегодня стукнуло 53 года. Вечером у меня были Сирано, Роксана, сидели до 3-х ночи…» Эти герои вошли в его жизнь, как и сам театр. Один Сирано в последний раз отмечал свой день рождения с другим Сирано.
Ранней осенью сорок первого начались бомбежки Ленинграда. Соловьев смотрел на падавшие с неба зажигалки и горестно говорил:
— Мои книги!.. Они же, понимаете, погибнут!
Он не знал, что сам погибнет раньше.
Во время одной из таких бомбежек он умер.
Когда его хоронили, ученики и друзья положили ему в гроб афишу спектакля «Сирано де Бержерак». Художник Оскар Юльевич Клевер использовал для нее фронтиспис к сочинениям де Бержерака, изданным во Франции двести лет назад, в 1741 году; только в верхней части графической композиции вместо изображенного там глобуса художник поместил портрет Сирано.
Советский театр хоронил своего Сирано, который, как и подобает романтическому герою, умер на войне.
Говорят, что человеческие качества артиста так или иначе определяют создаваемый им сценический образ. На этот раз для такой взаимосвязи оснований оказалось множество. Честнокову к моменту получения им роли Сирано исполнилось тридцать семь лет. В высшей степени интеллигентен и благороден тем органическим, врожденным благородством, когда дурные поступки исключаются не воспитанием или волей, а особенностью характера, нравственными устоями. Его приветливость с каждым, доброжелательство, принципиальность в самых острых жизненных ситуациях были известны всем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: