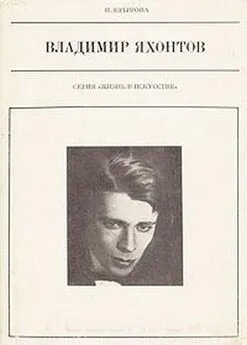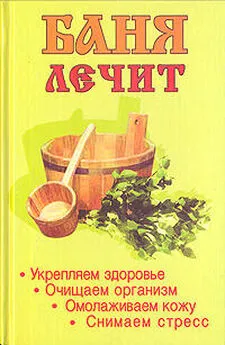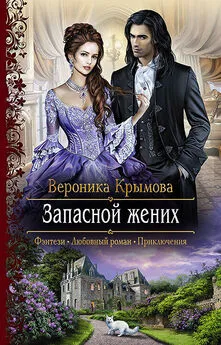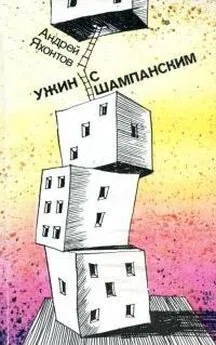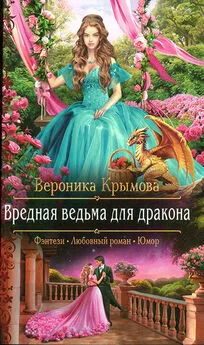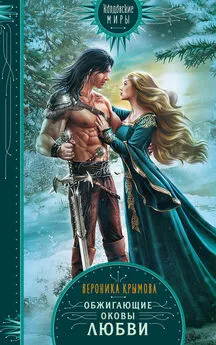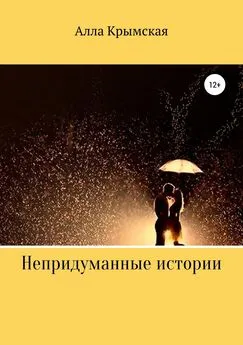Наталья Крымова - Владимир Яхонтов
- Название:Владимир Яхонтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Крымова - Владимир Яхонтов краткое содержание
Известный театральный критик и исследователь Н. Крымова в своей книге рассказывает о жизненном и творческом пути В. Яхонтова — выдающегося мастера слова, художника-реформатора, особенно выделяя такую тему, как природа жанра театра одного актера. Характеризуя работу Яхонтова над русской классикой, автор прослеживает, как в его творчестве синтезировались идеи школ Станиславского, Вахтангова и Мейерхольда.
Владимир Яхонтов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
П. Марков обладал даром замечать то, что имело перспективу развития. И когда на фоне многих ярких событий искусства второй половины 20-х годов только-только сверкнул талант Яхонтова, критик рассмотрел его с вниманием, которое обращал на крупные события театра.
И еще один отзыв на «Петербург» хочется выделить. Он был опубликован в журнале «Экран „Рабочей газеты“» в том же 1927 году. Этот отзыв требует некоторых комментариев, в силу того что имя его автора до сих пор с искусством Яхонтова никак не соотносилось.
Имя поэта О. Мандельштама не раз встречается в дневниковых записях артиста. Позже, восстанавливая вехи их жизни, Попова не один раз упоминает его в ряду главных событий и лиц. А началось это в пору работы над «Петербургом».
Поздней осенью 1927 года Яхонтов, Попова и Владимирский поселились в Царском Селе и в нетопленных залах пушкинского лицея начали репетиции. Создавая фантастический спектакль, они и жили какой-то удивительной жизнью. Дивились брошенной роскоши дворца. Бродили по пустым аллеям прекрасного парка, не встречая ни души. Входя в свое жилище, кланялись статуе Пушкина на мраморной лестнице.
В залах шел пар изо рта, ледяной была обивка кресел. Казалось, кроме них и статуи Пушкина во дворце никого нет. Но однажды вдруг раздался тихий стук и в дверную щель протянулась рука:
— Нет ли папирос?
Оказалось, в северном флигеле живет поэт Мандельштам.
Так началось знакомство, скоро перешедшее в дружбу.
Готовился спектакль о Петербурге, а за стеной жил поэт, знавший свой город «до прожилок». Этому знанию они и дивились и завидовали.
Стихи о городе Яхонтов запоминал мгновенно и вскоре по каждому поводу цитировал, на разные лады повторяя:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…
Поедем в Царское Село!
Расхаживая по холодным залам лицея, он учил к спектаклю строфы Пушкина, а окончательно замерзнув, громогласно читал:
Мне холодно! Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает…
До весны было еще далеко, но атмосфера белых ночей возникала как по волшебному слову, объясняла и оживляла текст Достоевского и Пушкина. Яхонтов смотрел на соседа влюбленными глазами — этот поэт произносил пушкинское слово «Петрополь» так же просто, как «телефон» или «папиросы», и далекие по смыслу и звучанию слова не отталкивались, но тяготели друг к другу.
Мандельштам проявил неожиданное живое любопытство к работе новых знакомых. Выяснилось, что театр занимает его гораздо серьезнее, чем можно было предположить. Оказалось, например, что года четыре назад он непосредственно вмешался в эту сферу — опубликовал в журнале «Театр и музыка» статью «Художественный театр и слово». Он выразил характерную для поэта (Маяковский, кстати, был с ним солидарен) неудовлетворенность отношением психологического, бытового театра к слову. Смысл статьи в том, что слово — не только средство общения, но бытие литературы, ее живая материя. «Что такое знаменитые „паузы“ „Чайки“ и других чеховских постановок? Не что иное, как праздник чистого осязания. Все умолкает, остается одно безмолвное осязание». «Истинный и праведный путь» театра, по мнению поэта, «лежит через слово, в слове скрыта режиссура. В строении речи, стиха или прозы дана высшая выразительность». Мандельштам считает, что Художественным театром двигало «своеобразное стремление прикоснуться к литературе, как к живому телу, вложить в нее свои персты… В сущности, это было недоверие к реальности даже любимых авторов, к самому бытию русской литературы».
Для актера, к тому времени совершившего своеобразное путешествие через три театральные школы, связанные с Художественным театром, эти размышления были необычайно привлекательны. Он горячо соглашался, что истинная связь театра и литературы осуществляется прежде всего через слово, что в строении стиха и прозы дана высшая выразительность, которую следует извлечь, найти ей сценическую форму жизни. Вместе с поэтом он готов был свысока посмотреть на маститый театр, где «исправляли слово, помогали ему», где «ошибались, запинались и путались в пушкинских стихах, беспомощно размахивая костылями декламации».
Подумать только — запинаться и путаться в Пушкине! При том культе Пушкина, который царил в их компании, это казалось варварством, не иначе.
Яхонтов увлекся мыслями Мандельштама, его стихами, знаниями, его художественной культурой. Но более всего он доверился его поэтическому слуху. В высшей степени взыскательным слухом был еще раз выверен спектакль «Пушкин». По ходу репетиций — «Петербург». Позже — «Горе от ума». К возможностям поэтического воплощения на сцене комедии Грибоедова Мандельштам проявлял особенный интерес. Еще в той же статье о Художественном театре он подвергал сомнению правомерность обычного, принятого в МХАТ способа работы, в основе которого лежит анализ «подтекста». Если не «читать в слове», а искать, что просвечивает за ним, то не проще ли «заменить текст „Горе от ума“ собственными психологическими ремарками и домыслами?» Поэт не без высокомерия вопрошал, Яхонтов с ним соглашался.
В том, как у самого Яхонтова звучит интонационный и ритмический рисунок текста, Мандельштам находил «зрелость» и «классику». Еще он употреблял свое любимое слово «эллинизм» — оно воспринималось высшей похвалой.
Чтобы не возвращаться к биографическим подробностям, добавим следующее. В середине 30-х годов среди других гастрольных маршрутов Яхонтов, конечно же, выбрал Воронеж. Надо полагать, когда он приехал, в воронежском доме Мандельштама стихи звучали не умолкая, сутками напролет. Это было естественной формой общения людей, связанных поэзией и служащих ей. Стихи читали, в стихах шутили, стихи до утра обсуждали.
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин…
Они посмеивались над внешним видом друг друга. Оба — денди, любители красивой одежды, по у Яхонтова был единственный твидовый пиджак, а поэт щеголял в синих парусиновых туфлях, о которых говорил, что они «страшные»…
Потом опять была Москва, «широкая разлапица бульваров», рессорные пролетки, на которых Яхонтов и Мандельштам восседали с неповторимым шиком, и ворохи сирени (любимые цветы обоих), подносимые ими, по очереди, Лиле Поповой… Еликониде Ефимовне Поповой были посвящены два стихотворения Мандельштама. В этих стихах поэтически зашифрованы реалии их тогдашней полубездомной московской жизни.
Короткая запись в дневнике об одной из встреч с поэтом: пришел Мандельштам, как всегда читал стихи. Он, — пишет Яхонтов, — «готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван тут же, только прочел нам (кажется, впервые и первым): „Мне на плечи кидается век-волкодав, но не волк я по крови своей“. Наш век — мне он не волкодав, а товарищ, учитель, друг…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: