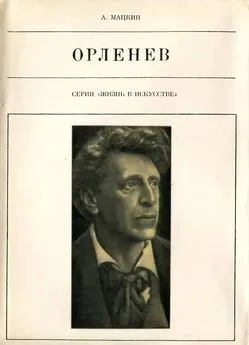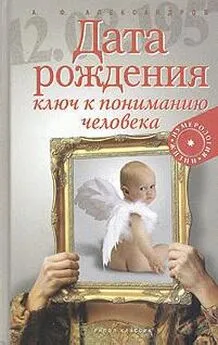Александр Мацкин - Орленев
- Название:Орленев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мацкин - Орленев краткое содержание
П.Н. Орленев принадлежит к числу самых выдающихся актеров конца XIX - начала XX века. Он начал свой путь в провинции как актер комедии и водевиля и заслужил всероссийское, а потом и мировое признание в трагическом репертуаре. Он первый на нашей сцене сыграл царя Федора в пьесе А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Он первый открыл русскому зрителю гений Достоевского и драмы Ибсена. На протяжении трех десятилетий он ездил по России, забираясь в самые глухие места, и гастролировал в европейских столицах и в Америке. Книга А.П. Мацкина - научное исследование и вместе с тем волнующая повесть о жизни и творчестве большого русского художника.
Орленев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
книжного текста) не укладывается в границы театрального вре¬
мени, он пытался поделить ее и играть два вечера подряд. Но
подобный эксперимент мог позволить себе Художественный театр
с «Карамазовыми», а не гастрольная труппа, часто приезжавшая
в какой-нибудь богом забытый городишко на один вечер. Здесь,
в провинции, и в театральном деле грубо управлял закон «то¬
вар-деньги», и даже имущие зрители не хотели платить два раза
за один спектакль, пусть и поделенный на части. Тогда Орленев
пошел на хитрость и объявил в афишах, что один билет с не¬
большой наценкой действителен на оба вечера; это дало какой-то
коммерческий эффект, но ненадолго. Трудно было изменить от
века существующий взгляд, что театральный спектакль это нечто
замкнутое во времени и пространстве и дробить его на серии
нельзя’ Таким образом, чтобы сохранить «Бранда» в репертуаре,
надо было эту драму, задуманную как эпос, приспособить к ус¬
ловиям сцены.
Его первая редакция пьесы была довольно робкой, он убрал
длинноты, темные места (например, в роли Герд), поясняющие
и не движущие сюжет диалоги (начало пятого акта). Потери
были не очень заметные, но, остановись театр на этом варианте,
его спектакль кончался бы с первыми петухами. И Орленев стал
работать над второй редакцией, уже гораздо более жесткой. Те¬
перь он безжалостно прошелся по всему тексту, вымарывал це¬
лые куски в ролях старухи матери, фогта, Эйнара, Герд и дру¬
гих, не пощадил и самого Бранда. Когда эта болезненная опера¬
ция наконец закончилась и переписанный набело текст был роз¬
дан актерам, оказалось, что в новой редакции не пострадала
только одна линия пьесы, та, которая касалась трагедии Бранда —
отца и мужа; малый мир, уместившийся внутри большого мира
ибсеновской драмы.
Ход мыслей у Орлепева был такой: если судить Бранда с по¬
зиций нормальных человеческих чувств, то где же, если не здесь,
рядом с Агнес и Альфом, его ждет самое трудное испытание; и
каким цельным рисуется его образ в свете этих тягчайших ду¬
шевных утрат. Спустя много лет, в конце двадцатых годов, Орле-
нев, вспоминая, как он готовил роль Бранда, записал в черновых
тетрадках: «К Бранду. Сцена с Альфом. Я вкладывал в эту
сцену всю пламенную нежность. В работе я боялся потерять хоть
одно мгновение; от неудачи исканий испытывал болезненные
уколы в сердце»7. Пламенная нежность — слова эти не идут
в ряд, плохо связываются даже этимологически, но ведь именно
так играл Орленев своего не столько пророчествующего, сколько
страдающего Бранда.
И все-таки он не считал роль Бранда своей удачей. Чувство
удачи для Орленева в те зрелые годы — это всегда чувство покоя
в минуты творчества, даже если он обращается к миру хаоса и
бунта. Возможно, завтра у него появятся сомнения, даже навер¬
ное появятся, но сегодня, пока он на сцене, ничто не омрачает
его духа: муки рождения роли остались позади, теперь приходит
пушкинская ясность. Такой ясности не было, когда он играл
Бранда. «Это тяжелое ярмо,— говорил он Вронскому,— едва-едва
с ним справляешься!» От себя Вронский добавляет, что Орле¬
нев после Бранда «всегда был измучен» 8. Нельзя объяснить эту
измученность физической усталостью актера — разве роль Кара¬
мазова, которую он играл в импровизационной манере, без ма¬
лейшей натуги, была легче? Нет, трудность здесь психологиче¬
ская. Дни, когда он играл Раскольникова, тоже были неспокой¬
ные, ему нужно было сосредоточиться, отгородиться от всего
постороннего, чтобы неторопливо войти в атмосферу трагедии. Но
когда начинался спектакль (повторяю: в зрелую пору), с каким
бы исступлением он ни играл свою роль, она рождалась в сти¬
хийном порыве, с ощущением ничем не стесненной свободы.
А «Бранд» шел тяжело, с перебоями, иногда в замедленном темпе
(особенно это относится к началу пьесы). Откуда эта затруднен¬
ность?
Может быть, от некоторой вольности в обращении с Ибсеном?
Известно, например, что Орленев, заступившись за своего стра¬
дающего Бранда, не дал ему погибнуть под обрушившейся снеж-
пой лавиной, что явно шло вразрез с намерением автора. Павел
Николаевич придумал свой, оптимистический вариант и играл
его, хотя был в нем настолько не уверен, что не рискпул расска¬
зать Плеханову об этой поправке («он с большой учтивостью на¬
стаивал, а я с болезненной застенчивостью не решался себя
разоблачить»9). А возраст Бранда? У автора он человек моло¬
дой, а в гриме Орленева не было никакой определенности, и не¬
которые зрители находили в нем черты Ибсена уже в преклон¬
ные годы. Но дело не только в этих фантазиях.
В мемуарах Орленев часто ссылается на текущую критику;
обычно это упоминание какой-нибудь хлесткой фразы, анекдота,
вскользь высказанного одобрения. Единственное исключение из
этого правила — статья Ар. Мурова, выдержки из которой зани¬
мают несколько страниц в книге актера. По мнению Орленева,
этот одесский критик написал о нем лучше всех столичных.
Статья, действительно, умная, дельная, и, кажется, в ней впер¬
вые затронута тема духовной близости искусства Орленева с ис¬
кусством Комиссаржевской и Моисеи. Среди многих ролей Муров
упоминает и орленевского Бранда, утверждая, что это одно из
высших выражений той «священной войны», которую современ¬
ная личность ведет с «началами цивилизованного мещанства».
Он, Муров, ничего похожего на то, как Орленев «проводит на¬
горную проповедь», никогда «не видел на русской сцене. Это не¬
ожиданно сорвавшаяся с горных высот лавина, какой-то всепо¬
глощающий экстаз, заливающий всю сцену и весь зрительный
зал» 10. Так-то оно так, но, публикуя отрывки этой старой статьи,
редакторы книги (их было двое и оба они были опытные литера¬
торы) допустили одну ошибку и сделали одну несколько меняю¬
щую смысл купюру.
Ошибка — фактическая: статья Ар. Мурова была напечатана
в «Южной мысли», которую в мемуарах почему-то переимено¬
вали в «Южные известия». Купюра — принципиальная. Перед
только что приведенной цитатой опущена одна фраза: «Всего
Бранда он, конечно, не дает»,— пишет критик, после чего сле¬
дуют уже знакомые нам слова о «нагорной проповеди», которую
Бранд читал в экстазе. Правда, в 1912 году замечание Мурова,
предваряющее похвалу, Орленев воспринял спокойно, не так бо¬
лезненно, как это было бы несколько лет назад, когда его мучила
мысль о том, что он играет не всего Бранда, а какую-то часть
его, дробь, а не целое, говоря словами Ибсена. Ведь по идее
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: