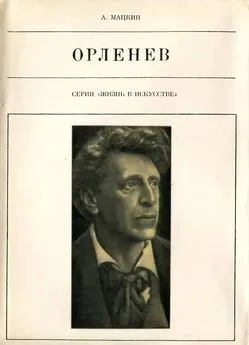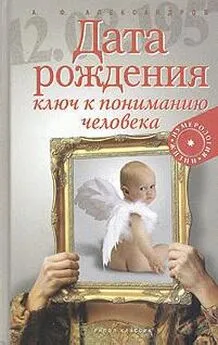Александр Мацкин - Орленев
- Название:Орленев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мацкин - Орленев краткое содержание
П.Н. Орленев принадлежит к числу самых выдающихся актеров конца XIX - начала XX века. Он начал свой путь в провинции как актер комедии и водевиля и заслужил всероссийское, а потом и мировое признание в трагическом репертуаре. Он первый на нашей сцене сыграл царя Федора в пьесе А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Он первый открыл русскому зрителю гений Достоевского и драмы Ибсена. На протяжении трех десятилетий он ездил по России, забираясь в самые глухие места, и гастролировал в европейских столицах и в Америке. Книга А.П. Мацкина - научное исследование и вместе с тем волнующая повесть о жизни и творчестве большого русского художника.
Орленев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ланта, полагающегося на интуицию, «нутро», на то, что «кривая
вывезет». Вспомните, что роль Освальда он готовил больше двух
лет и потом почти четверть века продолжал работать над ней *.
Нет, здесь причина другая. Знакомясь с рукописным наследством
Орленева,— оно оказалось более обширным, чем можно было
предполагать,— замечаешь, как часто, говоря об актерском твор¬
честве, он сталкивает понятия будней и праздников. Будни —
это повторение, привычка, заученность, вынужденность, компро¬
* В записных книжках Орленева мы находим множество замечаний,
касающихся доделок в роли Освальда. Вот одна из записей, помеченная
17 июня 1919 года: «2 акт. Освальд. Спектакль у Абрикосова. Тоска. Перед
пением. Развернул книгу, перевернул две страницы и в тоске отбросил
книгу... Ай, заскрипел зубами, угрожающий взгляд небу. Жест, схватил
бутылку и как бы замахнулся с блуждающим взором, оборвал, посмотрел и
перевел взгляд на Регину». Здесь же мы находим и другие записи отно¬
сительно «Привидений» (январь 1922 года — Витебск; февраль 1922 года —
Москва).
мисс, всякая навязанная необходимость. Праздник — это узнава¬
ние, движение, риск, сосредоточенность, предчувствие и начало
творчества, та пушкинская минута, когда «стихи свободно поте¬
кут». Как вызвать эти минуты, от чего они зависят? Почему иной
раз он понукает себя, бьется, мучается и не может подняться над
буднями? И тогда, недовольный собой, партнерами, публикой, не
знает удержу — игра его становится несдержанно грубой, и для
недругов-рсцеизентов есть богатая пожива.
Он выступает в глухой провинции, в маленьких уездных горо¬
дах, где-нибудь в Купянскс или Золотоиоше (у Чехова в «Запис¬
ных книжках» сказано: «Золотопоша? Нет такого города!
Нет!») — и играет по своему придирчивому счету, как Станислав¬
ский, выше ему не подняться! В самом деле, проходят десятиле¬
тия, и старые люди по сей день с волнением вспоминают встречу
с его Освальдом. Эраст Гарин, человек другого времени и другой
культуры, блестящий представитель мейерхольдовской актерской
школы, в своих мемуарах рассказывает, как в рязанской юности
его потряс талант Орленева — «Сила воздействия этого актера
мощна и неотразима» 24 — и среди лучших ролей «великого гаст¬
ролера» называет Освальда. Здесь давность впечатлений уже бо¬
лее чем полувековая. Это праздник в провинции. А вот будни
в столице.
Приезжает Орленев в Москву в октябре 1910 года и ставит
в Сергиевском народном доме «Привидения». Критика устраивает
ему форменный разгром. В «Новостях сезона» мы читаем: «Гово¬
рили, что в роли Освальда артист с первого взгляда потрясает,
наводит жуть. Но, увы», сокрушается рецензент, мы «не услы¬
шали ни одной искренней ноты, ничего из глубины, все внешнее,
когда-то недурно сделанное и так играемое много лет совершенно
механически...»25. Обрушивается на Орленева и журнал «Рампа
и жизнь», упрекая артиста в том, что он играл Освальда не¬
брежно, неискренне, нетонко, лубочно. Критика развязная и раз¬
носная, Орленеву следовало бы возмутиться, он страдает и мол¬
чит, потому что знает, как плохо прошел московский спектакль.
Два с половиной часа конфуза! Начали с опозданием, в зале не
прекращался кашель (глубокая осень, слякоть, бронхиты), го¬
лос у фру Альвипг был простуженно-хриплый, пастор путал
слова, Регина играла соблазнительницу, он пытался спасти поло¬
жение и еще больше его запутал, суетился, пережимал, утриро¬
вал! Случай как будто чрезвычайный, но по его классификации
он относится к разряду будней.
Не всегда причины его неуспеха такие очевидные, чтобы их
можно было поименно перечислить. Бывает иначе: он устал, ему
скучно, ничего не видно впереди; мир его сжался до нескольких
точек: вокзал, гостиница, театр — сперва в одном направлении,
потом в обратном — театр, гостиница, вокзал. Те же города, тот
же репертуар. Он мрачнеет, ожесточается, даже пить ему надо¬
ело. Врачи, если он к ним обращается, говорят — депрессия. Он
и сам это знает, играть ему трудно, особенно Освальда. К его
тоске прибавить свою тоску — это нехудожественно и безнравст¬
венно: тащить свою боль на сцену и получать за нее аплодис¬
менты! Хочешь исповедоваться, излить душу — найди образ,
найди маску! Такова теория, но есть еще необходимость, и, неза¬
висимо от душевного расположения, он должен играть, при всех
условиях играть... В эти печально будничные дни его накоплен¬
ная за долгие годы техника, выучка становится ненадежной. Ему.
первому неврастенику русского театра, создателю большого цикла
«больных людей», для игры в пьесе Ибсена нужен покой, план и
гармония. Зависимость здесь обратная: чем надрывней роль, чем
острей ее муки, тем больше она требует уравновешенности и са¬
модисциплины.
Мне посчастливилось — я видел Орленева в «Привидениях»
в середине двадцатых годов в рядовом, ничем не примечательном
и тем не менее праздничном спектакле, потому что он играл Ос¬
вальда с «непоколебимым спокойствием», уверенный в том, что
способен «заключить в объятия весь мир» 2б. И это чувство пере¬
давалось его зрителям. Сквозь десятилетия память сохранила об¬
раз старого спектакля, особенно его второго акта, правда, вна¬
чале в некоторой разрозненности и непоследовательности картин:
рыдания Освальда, уткнувшегося головой в колени матери, его
долгий, устремленный в одну точку взгляд, его медленное круже¬
ние по сцене и паузу у портрета отца, какой-то неотвязчивый,
может быть, тогда модный странно игривый мотивчик, новую
вспышку болезни, непредусмотренную Ибсеном, тоже короткую,
но более продолжительную, чем в первом акте, глухой стоп, рву¬
щийся из груди, руку, судорожно сжимающую затылок, и потом,
когда речь заходит о Регине, робкую улыбку и на мгновение
ожившее лицо, замученное тоской и болыо, и т. д. Еще одно уси¬
лие памяти — и эти хаотические впечатления складываются
в стройную картину. Должно быть, потому, что игра Орленева
в том гастрольном спектакле следовала ритмам, заданным при¬
родой, и счет времени, как в музыке, шел в долях секунд, не то¬
ропясь и не запаздывая.
Третий акт «Привидений» начинается ремаркой Ибсена «Еще
темно, на заднем плане слабое зарево». Это одна из немногих ре¬
марок в пьесе, которой Орленев придавал большое значение; рас¬
сеялся последний миф, ночью сгорел детский приют, построен¬
ный в память камергера Альвинга. Зарево — вещественный знак
этой катастрофы, подобно огненным словам на Валтасаровом
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: