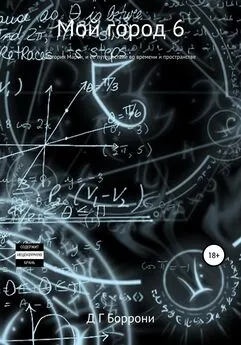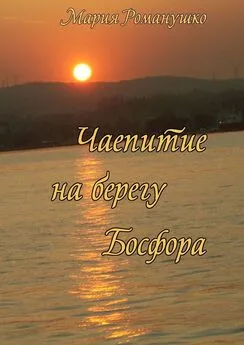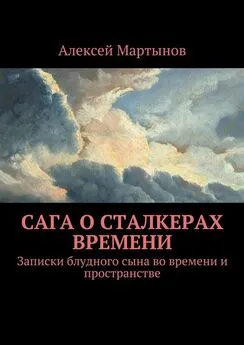М Улицкая - В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. [калибрятина]
- Название:В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. [калибрятина]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
М Улицкая - В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. [калибрятина] краткое содержание
В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. [калибрятина] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Человек со вкусом, глядя на эти доморощенные красоты, лишь усмехнется. Однако ответ на вопрос, украшают ли подобные цветочки классический пейзаж или уродуют, и в Израиле и в России не есть проблема эстетическая. Это вопрос, так сказать, мирочувствования. Человеку нужно плюс ко всему еще и «немножечко шить». Меня, во всяком случае, эта ничтожная грядка анютиных глазок разбередила не меньше Стены Плача. Да и то сказать, на что мы перед ней надеялись? Писатель Б. сунул между камней записку с просьбой, чтоб сына из школы не исключили… Я и вовсе ничего писать не стал. Но все же подумал: пусть дочке и жене будет хорошо. И тронул камень стены рукой. Улестил-таки душу…
Тема эта равно и «еврейская» и «розановская», тема «теплоты быта и бытия», тема «маленького человека» как «всечеловека». И не грозный ветер Нового Завета, так нас и не настигший, послышался мне на берегу Средиземного моря, а голос тишайшего в нашей громыхающей словесности писателя: «Мне нравится … ветер бурный, называемый Эвроклидон». Этот свирепый ветер упоминается в Деяниях Апостолов и ничего хорошего не обещает, преграждая путь в Рим кораблю, на котором заточен апостол Павел. Тема напрашивается сама собой: побеждает ли тот, кто этому ветру, и тем самым судьбе, противостоит? Ответ не совсем прост: ветер не переборешь, но до Рима все равно доберешься. Что и произошло с апостолом Павлом, успешно проповедовавшим в Вечном городе христианство и там же потерявшим на плахе голову — при Нероне.
Ни герои тишайшего мастера, ни сам он в Земле обетованной никогда не бывали. И голову мастер сложил, не дождавшись палачей, исчез. Мы и сейчас не ведаем, какой он избрал путь, знаем лишь его прощальную записку: «А меня не ищите — я отправляюсь в дальние края». Где он, его Небесный Иерусалим?
Как будто и на самом деле мастер этот был не от мира сего. С таким лицом, как на двух-трех сохранившихся его фотографиях, мог бы у нас приютиться инопланетянин с какой-нибудь маленькой, старой и еще более несчастной, чем Земля, планеты. «Он не всегда жил здесь» — единственное, что этот автор считает нужным сообщить об одном из своих героев. Рекорд заповеданного им минимализма.
Прощальная записка тоже исчезла. Я не против видеть в этом знак судьбы: «исчезновение» — это мотив, венчающий все сюжеты нашего прозаика. Имею в виду исчезновение автора, рассказчика, подразумеваемого главного героя — как бы мы это лицо ни называли,— а не исчезновение персонажей, бесчисленно мелькающих на страницах его прозы среди необозримого скопища бытового реквизита и отраженных в воде пейзажей. Никакой полифонии ни безвестные герои, ни анонимные реплики в этой прозе не создают. По доброй и скорбной воле автора они лишь заглушают тот единственный голос, что мы пытаемся уловить в доступном нам отголоске эха.
Фраза о «дальних краях» имеет несомненную романтическую, юношескую, если не отроческую, тональность. Или же сигнализирует о сознательном использовании ее в скрытых целях. Намекает на некую идеальную проекцию судьбы.
В зависимости от ориентации авторов по отношению к отчему дому и — более широко — к отечеству, любой из них разрабатывает или центробежную, или центростремительную модель поведения в мире. В первом случае alter ego художника полагает главным и возможным в жизни реализовать свое предначертание вне ареала обитания, исповедует «этику любви к дальнему». Путь равно невинного отрока и умудренного философа, путь верующего во Христа и верующего в то, что Золотые ворота — распахнутся. Вторая модель — это модель «возвращения», не менее широко представленная в мировой культуре: достаточно вспомнить «Одиссею» или притчу о блудном сыне…
В XX веке на скрещении обоих путей возникла новая модель, ярче всего выраженная в судьбе еврейского рассеяния. Исчезновение из среды обитания стало залогом возвращения. Приветствие-заклинание «В будущем году в Иерусалиме!» полно единственного смысла и для того, кто в нем не жил, и для того, кто собрался из него в дорогу.
Наш провинциальный автор до возможности возвращения куда бы то ни было не дожил и не думал о нем. Его проза — это проза о «неначинающемся путешествии», подобно тому как проза его ближайшего в этом смысле предтечи — Чехова — была прозой о «несостоявшемся событии».
Все чего-то ждут в этой прозе: вестей, писем, советов, мнений… В первом же рассказе нашего автора провалившийся на экзамене студент заканчивает тем, что, жуя на крыльце ситный, задумывается: «…что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее назавтра дождь, небо». И в последней опубликованной вещи писателя все то же самое. Помыслы героя-рассказчика связаны с одним: «…и меня что-то ждет впереди необычайное».
«Надо уезжать» из этой жизни — такова метафизика сюжетов мечтательного автора. Даже когда в единственном из его рассказов речь идет о «возвращении» (герой уезжает из северной столицы к родным в провинцию), «возвращение» это подается как исчезновение, как бегство, спровоцированное разговорами о прелестях заграничной жизни, олицетворением которой для подданного совдепии являлась мифическая «заморская тетушка».
«Глядя из Израиля», особенно становятся ясными подспудные, неверифицированные отчетливо и самими авторами, экзистенциальные мотивы русской прозы советского периода. По вещам нашего «Уездного Сочинителя», как он сам себя величал — и каковым был,— о них можно судить на любом уровне: взять ли для анализа рассказ, главку, абзац, фразу… Потому что таков замысел, импульс к созданию очередной вещи. Об одной из них автор трижды пишет знакомому литератору: рассказ об «отъезжающей девице». Поражает, что с подобной четырехстраничной эфемерностью он собирается триумфально прибыть на берега Невы, «как некий Флобер в Париж с «Мадамой»». Сюжет этого в конверт укладывающегося шедевра приравнивается к сюжету «Госпожи Бовари» — с тоской героини по Парижу.
Между тем в рассказе нигде не говорится, что героиня куда бы то ни было отъезжает или собирается уехать. Этот факт в последний момент с удивлением обнаруживает и сам автор: «…она уже не отъезжающая, ибо никуда не едет и не собирается <���…> попрошу прочесть, потому что сам в ней ничего не могу понять и не знаю, может ли быть такой рассказ».
Рассказ позже был переписан и переименован. Стал называться по имени героя известного английского романа. Два потаенных мотива переплелись в нем: мотив покинутости, томления открытого любви слабого существа и неотчуждаемый от него мотив бегства, отъезда. Героиня рассказа лишь внешним образом «никуда не едет и не собирается». Желание уехать ушло на дно души, героиня живет мелькнувшей надеждой на романтическое свидание. Мотив движения в неизвестность остается, но преображенным в коварную идиллию, в прогулку с незадачливым героем в лодочке…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги М Улицкая - В Израиль и обратно. Путешествие во времени и пространстве. [калибрятина]](/books/1090704/m-ulickaya-v-izrail-i-obratno-puteshestvie-vo-vrem.webp)

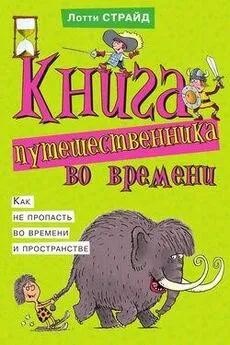
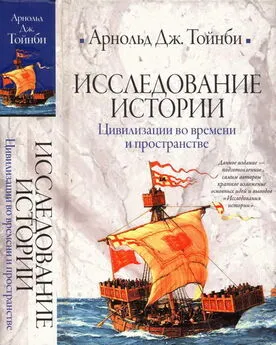
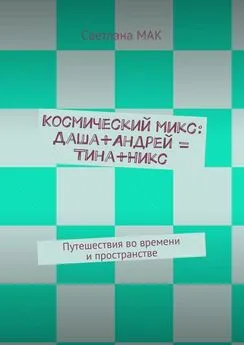
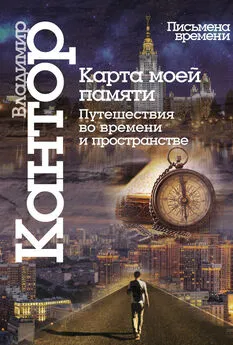
![Жан-Кристоф Руфин - Кругосветное путешествие короля Соболя [калибрятина]](/books/1061403/zhan.webp)