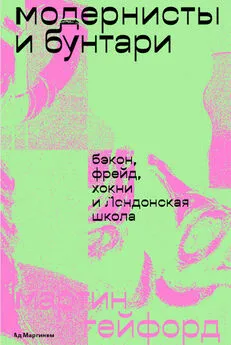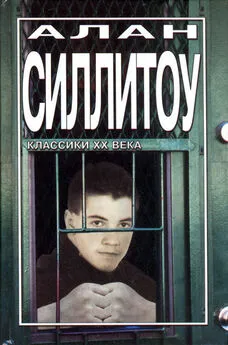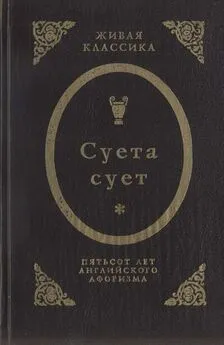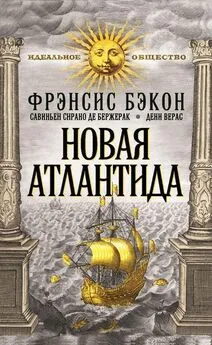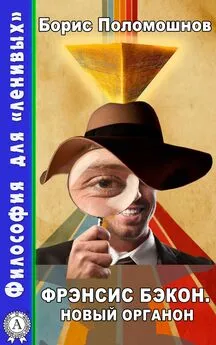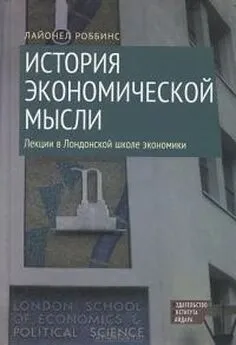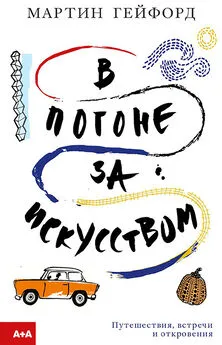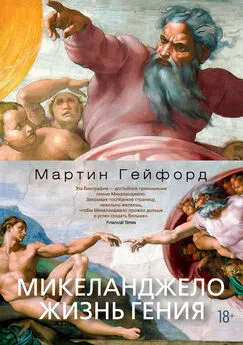Мартин Гейфорд - Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа
- Название:Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-624-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Гейфорд - Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа краткое содержание
В формате PDF A4 сохранён издательский макет.
Модернисты и бунтари. Бэкон, Фрейд, Хокни и Лондонская школа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Барнетт Ньюман, американский художник, который считал, что арт-критика нужна разве что птицам [26] Автор несколько искажает цитату. Ньюман писал: «Эстетика для живописи – всё равно что орнитология для птиц» («Aesthetics is for painting as Ornithology is for the birds»). – Примечание переводчика.
, известен также замечанием «мы соперничали с Микеланджело» [27] Hughes R. American Visions: The Epic History of Art in America. London, 1997. P. 495.
. Возможно, это было абсурдным преувеличением. Искусствовед Роберт Хьюз, размышляя о прошлом, ответил: «Что ж, ты проиграл, Барни!» Но Бэкон – тоже очарованный Микеланджело, – возможно, был согласен с Ньюманом относительно высоты планки. Он тоже хотел создать картину, адекватную по эмоциональному и художественному воздействию и отражающую состояние человека. Последнее, по его мнению, характеризовалось бессмысленностью. Бог умер, жизнь бесцельна, смерть – это конец. Но он хотел и дальше создавать картины, такие же глубокие и сильные, как у старых мастеров.
Его американские современники, такие как Ньюман и Марк Ротко, согласились бы – хотя не сошлись бы с Бэконом во мнениях относительно сохранения образа человека. Художники-авангардисты в Нью-Йорке – те, кого первыми назвали «абстрактными экспрессионистами» (1946), – стремились создавать картины, которые не содержали узнаваемых изображений людей или объектов видимого мира, достигая серьезности и героической мощи самых монументальных произведений прошлого лишь благодаря краске.
Они хотели, чтобы их картины, как они выражались, были «возвышенными». Бэкон не использовал этого выражения, но стремился сделать нечто сравнимое в фигуративной живописи: картину, которая не изображала бы ничего или, по меньшей мере, ничего, что поддавалось бы описанию. Разница была в том, что в Нью-Йорке несколько художников двигались параллельными путями. В Лондоне сороковых годов никто, кроме Бэкона, не стремился к «возвышенному». Он работал в одиночестве и – несмотря на то, что в пятидесятых и шестидесятых был центром полного жизни круга, включавшего исключительно одаренных художников, – продолжал ощущать себя членом группы, состоящей из него одного:
Думаю, гораздо увлекательнее быть одним из художников, работающих вместе, и иметь возможность обмениваться мыслями… Думаю, чертовски здорово, когда есть с кем поговорить. Сейчас здесь не с кем говорить. Возможно, мне не повезло, и я не знаю таких людей. С теми, кого я знаю, мы сильно расходимся во взглядах [28] Sylvester D. Interviews with Francis Bacon. P. 65.
.
При таких обстоятельствах неудивительно, что Бэкон долго собирался с духом. По его признанию Дэвиду Сильвестру, он «поздно приступил ко всему, замешкался». К тому же, как мы видели, он был аутсайдером-самоучкой в мире живописи. Неудивительно, что следствием этого стало неверие в собственные силы. Он начал свой творческий путь художника с великолепного импровизаторского порыва; так продолжалось и дальше. В начале 1933 года, когда ему не было двадцати пяти, он представил одну из самых выдающихся британских картин той эпохи – Распятие (1933): изображение странной фигуры с руками-палочками, головой-гвоздиком и эктоплазмическим телом призрака или духа. Она явно была создана под влиянием работ Пикассо тридцатых годов, но внушала ужас. Отличительная черта Бэкона, жуть , проявилась уже тогда.
Распятие нашло покупателя и – необычайная честь – было тут же воспроизведено в книге Герберта Рида, ведущего модернистского критика Британии, названной Искусство сегодня (1933). Картина Бэкона располагалась на одном развороте с созданной тогда же картиной Пикассо, указывая на связь между двумя художниками, причем подразумевалось следующее: «Перед вами – выдающийся британский последователь Пикассо». Затем Бэкон на год исчез из виду.
Первая персональная выставка, устроенная им самим в галерее Transition (1934), не имела финансового успеха и не получила одобрения критиков. Times опубликовала резкий отзыв, продано было всего несколько работ. Бэкон отреагировал тем, что уничтожил все остальные, включая Рану для распятия , которую собирался купить один коллекционер (и о которой он сам впоследствии сожалел). В 1936 году Бэкон оставил занятия живописью. Никаких его работ, созданных до 1944 года, не сохранилось; говорили, что он уничтожил множество полотен, возможно сотни. Прореживать свои работы, отсеивая слабые, – обычная практика художников. Люсьен Фрейд поступал так же, возможно позаимствовав идею у Бэкона. Но стремление последнего уничтожать собственные картины почти не имеет параллелей в истории искусства. От произведений Бэкона начала тридцатых годов, первого периода его карьеры художника, почти ничего не осталось.
Одной из причин, по которым он уничтожил необычайно много своих произведений (по его мнению, лишь немногие были достойны его ожиданий, если такие вообще имелись), были высокие устремления Бэкона. Другой была, несомненно, неуверенность в себе. Сочетание этих двух факторов привело к появлению непомерных, мазохистски высоких критических стандартов. Хорошим признавалось немногое или даже ничто из того, что делал сам Бэкон – либо, если уж на то пошло, кто угодно. (Одной из очень немногих работ, которой он был относительно доволен, была Картина 1946 . Бэкон говорил о ней: «Мне очень долго не нравились мои картины. [Но] эта мне всегда нравилась, она и сейчас обладает силой».) В каком-то смысле это отношение было здоровым, как замечает Фрэнк Ауэрбах:
Ницше говорил, что следует ценить людей, отвергающих второсортное. Фрэнсис отвергал почти всё, включая собственные работы, – вполне искренне, хотя и выкладывался в работе полностью. Он никогда не считал, что сделанное им достаточно хорошо. В конце концов это всего лишь здоровый настрой – как можно идти вперед, если не надоело то, что уже сделано?
В середине сороковых о Бэконе почти ничего не было слышно. Из тех, кто был близок к художественному миру начала тридцатых, его помнили немногие. Среди них нужно выделить Грэма Сазерленда, чьи картины висели на выставке в галерее Agnew’s рядом с работами Бэкона в 1937 году. (Виктор Пасмор тоже был представлен там.) Возможно даже, что Сазерленд в то время находился под влиянием своего блестящего младшего современника (впоследствии, безусловно, так и было). Фигуры в саду (около 1935), одна из горстки уцелевших картин Бэкона тридцатых годов, кажется предвестием агрессивной, колючей, «триффидной» растительности, написанной Сазерлендом и его последователями в следующем десятилетии.
Немногие знали о Бэконе больше, чем можно было узнать, глядя на репродукцию «Распятия» в книге «Искусство сегодня». Но и она производила впечатление. Джону Ричардсону, который впоследствии стал биографом Пикассо, было тогда двадцать с небольшим, и он увлекался современным искусством. Он и его друзья «поклонялись этой иллюстрации», но «никто из нас не мог выяснить, кто такой Фрэнсис Бэкон». В конце концов, однажды вечером Ричардсон случайно заметил «довольно молодого человека со светлым лицом», входившего в дом напротив дома его матери на Саус-террас, справа от Турлоу-сквер в Кенсингтоне. Оказалось, что это и был тот таинственный человек, Фрэнсис Бэкон, который нес свои холсты из студии на Кромвель-плейс в дом своей кузины Дайаны Уотсон. По тому, что Ричардсон сумел разглядеть на этих полотнах, он решил, что их написал автор Распятия . Он представился, и вскоре они с Бэконом стали друзьями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: