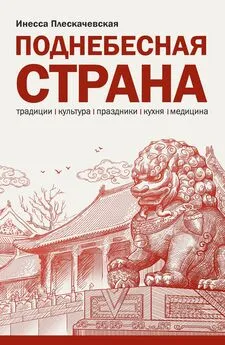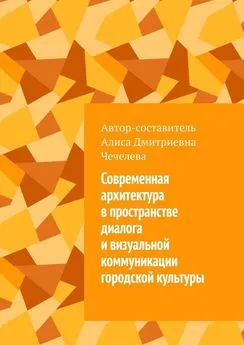Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры
- Название:Метаморфозы в пространстве культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-052-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инесса Свирида - Метаморфозы в пространстве культуры краткое содержание
Способность к метаморфозам – универсальное свойство культуры, позволяющее интеллектуально и практически преображать мир. В книге в избранных аспектах рассмотрены метаморфозы пространства, природы, человека, типа культурной эпохи. Ряд глав построен в ретроспективном плане. Однако основное место отдано эпохе Просвещения, которая охарактеризована в качестве культуры открытого типа, театрализованной, склонной к историзму, феминизации, эзотерике и культу садов. Их изменчивому пространству, образу и функциям уделено особое внимание. Они анализируются в контексте взаимоотношений натуры и культуры, сакрального и светского, города и сада, показаны как пространственная среда, формирующая модель мира и человека. Сам же он выступает как человек «естественный» и «играющий», «социальный» и «эстетический», а также на экзистенциальном пограничье человек/нечеловек.
Метаморфозы в пространстве культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Уильям Хогарт. История распутника. Его leve. 1735
Посредством театрализации нарушалась граница между бытовым и художественным пространством. О том, как это происходило в садах, уже говорилось (с. 252–254). Бах это делал, написав «Кофейную кантату», а Гайдн, укоротив партии разных инструментов в финале «Прощальной симфонии» – в результате музыканты, не нарушая исполнения, могли постепенно уходить со сцены, для дополнительного эффекта гася свечу на своем нотном пульте. Таким способом показывали, что пора улучшить условия работы. Театрализовались бытовые сцены, как утренний туалет, совершавшийся в присутствии разных действующих лиц. Широкая публика допускалась на «сеансы» королевской трапезы [915].
Многочисленные фарфоровые украшения превращали обеденный стол в миниатюрную сцену, на которой размещались фарфоровые фигурки, также входившие в декорацию. Само застолье по торжественным случаям всегда имело характер выдержанного в том или ином вкусе праздничного действа, что было связано с выработкой новых форм светского этикета [916]. Уже не сакрализация власти и не просто социально маркированный ритуал определяли его характер, сколько «приличие», принятые нормы обихода, что касалось не только манер, но и костюма. Однако Н.А. Демидову, приехавшему в Париж, нужно было за одну ночь изготовить себе французское платье, чтобы быть представленным ко двору.
Макияж XVIII в. часто уподоблялся театральному гриму, сближавшемуся по функции с маской. Гёте писал в 1771 г.: «…как ненавистны мне наши художники, которые мастерят размалеванных кукол. Театральными позами, неестественной окраской лиц и пестротой одежд они прельстили взоры наших дам» [917]. Независимо от того, был ли это натуральный свекольный румянец русских барынь или ювелирные мушки на более тонко нюансированных щеках французских моделей – во всех случаях макияж претендовал быть естественным.

Казимеж Возняковский. Модник. Рисунок. Конец XVIII в.
В то время оказались сближены прогулочный и театральный костюм. Пастушки и садовницы, обитавшие в пейзажных парках, в театре облачались в каркасные платья-панье (от фр. panier – корзина), которые служили также придворным прогулочным костюмом. Сам покрой одежды мог напоминать о театре – распашные полы надеваемых на платье контушей, распространившихся в европейской женской моде, были подобны расходящемуся занавесу. Марина Цветаева назвала «комедийно-сельским» наряд Марии Антуанетты, в котором la reine-laitière (королева-молочница) приходила на ферму в деревушке Малого Трианона [918]. Ю.У. Немцевич, драматург и общественный деятель, адъютант Костюшко, после пребывания обоих в Петропавловской крепости, так заочно описывал Екатерину II в Царском Селе: «Она хочет, чтобы верили, что она простая… крестьянка; ведь распоряжения о конфискациях, изгнаниях и наказаниях кнутом она подписывает среди капусты и моркови в своей простой белой шляпе, салопе из китайки, с тросточкой и зонтиком» [919]. Упомянутая тросточка была одним из элементов балетного пасторального костюма. Из него в одежду пришла и мода на букеты искусственных цветов, в том числе из драгоценных камней [920]. Театрализованный характер имел способ ношения костюма, который вплоть до конца столетия во многих случаях ограничивал свободу движений.
Костюму уделялось особое внимание – он получил более разнообразные формы, более краткосрочной стала мода, на гардероб тратились целые состояния, правительства начали регулировать расходы на одежду. Переодевание служило не только развлечению, но и давало возможность вжиться в образ «естественного человека». Однако оно не всегда было добровольным и костюмы не всегда пейзанские. Швед К.Р. Бёрк, посетив Россию в 1735 г., писал, что «года два тому назад кавалеры и дамы получили приказ носить…

Садовник. Фарфор. Германия 1770-е гг.
Эпоха Просвещения была одержима идеей морального прогресса, преображения окружающего мира, ею владел неуемный критический дух, жажда новизны – все это определило ее предрасположенность к постоянным метаморфозам. По сути реформистская, прожектерская и пацифистская, она неожиданно для ее философов завершилась революцией и первой по масштабу мировой войной, каковой стали наполеоновские походы. Тем самым Просвещение, в этом случае как бы против воли, реализовало принцип театральности – быть нетождественным самому себе. Оно стало не только Веком философов, но и галантным веком, временем l’ancien régime и преддверьем революции. Все его ипостаси объединяло выраженное в той или иной форме театральное начало. По иронии истории, на месте разрушенной тогда Бастилии в наши дни возвели оперный театр – L’Opéra de la Bastille. Так благодаря духу метаморфозы спустя два века совершилось еще одно необычное превращение.
Глава 4
Феминизированный век философов
В просвещенческой парадигме. – Российские контрасты – Ученость и женственность. – Женщина как адресат и инспиратор. – Феминизированный эрос

Спящая Философия. Гравюра Жана Мишеля Моро. 1777
Вплоть до XIX в. женщин продолжали сжигать как ведьм. В таких случаях женщина не воспринималась в своем естестве , оно еще не было «открыто», т. е. полностью отделено от приписываемых ей сверхнатуральных свойств. Относительно животного мира это произошло в науке еще в середине XVII в. Именно тогда начали создавать действительно естественную историю природы, уже не включая в нее описания фантастических животных и говорящие о них мифы, легенды и сказки [921]. По отношению к человеку в плане теории познания это совершилось в эпоху Просвещения (c. 234, 301–302), сказавшись и в юридических установлениях. Во второй половине XVIII в. в большинстве стран Европы отменили наказания за колдовство и общение с нечистой силой, отрицая этим саму возможность такого рода действий. В них чаще обвиняли женщин, что связывалось с тяготевшей над ними ответственностью за первородный грех.
Как писал Карл Линней в «Философии ботаники», «нужно отбросить… все случайные признаки, не существующие в растении ни для глаза, ни для осязания». Отбрасыванием случайных признаков Просвещение последовательно занималось по отношению к природе, человеку, истории, вещи, правда, при этом они теряли мифопоэтическую основу, а также символику, обогащавшую их образ. Все становилось более понятным и легче объяснимым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/1076529/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po.webp)