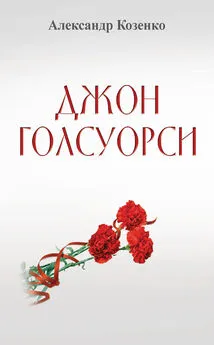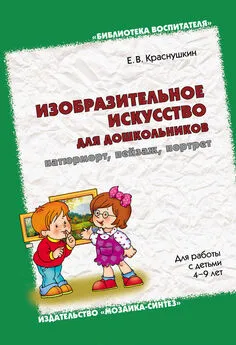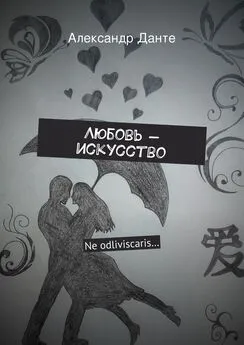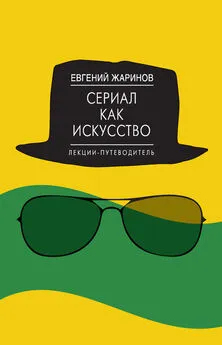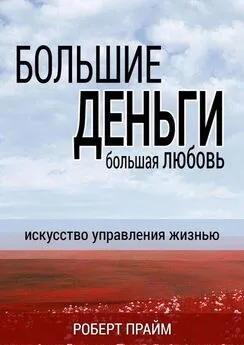Евгений Басин - Любовь и искусство
- Название:Любовь и искусство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алетейя»316cf838-677c-11e5-a1d6-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905926-7-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Басин - Любовь и искусство краткое содержание
Оставляя читателя антологии наедине с яркими и глубокими высказываниями теоретиков и мастеров искусства о любви (и как в творческом акте, и в содержании произведений, во впечатлении от подлинных шедевров), автор-составитель ставит главной задачей обоснование своей гипотезы об энергийной природе изучаемого феномена. Эта цель и определяет характер отбора материалов, составивших книгу. Антология может привлечь внимание тех, кого интересуют экстрасенсорные (телепатические) аспекты любви, как в искусстве, так и в жизни. В текст книги включена статья С. С. Ступина, дополняющая авторскую концепцию с позиций аналитики антропологически значимых характеристик художественных языков.
Любовь и искусство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Страх от бытия в этом мире» (понятый не как психолог и ческое только состояние, но как духовное, нравственное переживание, обусловленное нерешенными моральными проблемами) в акте художественного творчества, создающего с помощью воображения новые гармонические, прекрасные образы, получает на время акта свое разрешение, снимая тем самым напряжение и доставляя наслаждение. Такой эффект освобождения от напряжений, конфликтов, фрустраций, «изживание страдания в искусстве» называется в психологии сублимацией. Фрейдизм несколько скомпрометировал это понятие, абсолютизировав значение сублимации как якобы единственно стимулирующей творчество. Но как сам факт сублимации, так и тот факт, что фрустрация в принципе может (при определенных обстоятельствах) стимулировать художественное творчество, ни у кого из психологов не вызывает сомнения.
Каков конкретный механизм снятия напряжения в акте художественного творчества? Заслуживает внимания такая концепция: художник побуждается к творчеству напряжением, существующим в нем до того, как начался акт творчества. Это напряжение часто имеет неосознаваемый характер. В акте творчества создаются специфические художественные напряжения, в нем же и снимаемые (катарсис!). Благодаря освобождению от специфических художественных напряжений происходит известное снятие и жизненных напряжений, с которыми художник вступил в акт творчества.
С энергетической точки зрения такое объяснение во многом совпадает с позицией Л. С. Выготского, разделявшего взгляд о том, что искусство возникает из тяжелой физической работы и имеет задачу катарстически разрешить тяжелое напряжение труда. Впоследствии, когда искусство отрывается от работы и начинает существовать как самостоятельная деятельность, оно вносит в само произведение напряжение, которое нуждается в разрешении и теперь начинает создаваться в произведении. Все это совершается с помощью художественной формы, художественной композиции, «открываемой» каждый раз заново художественным воображением творца.
Представляется ошибочным отождествление мотивационной деятельности с ее энергетическим обеспечением [27]. Не напряжение само по себе – будь оно физическое, психическое или духовное (например, нравственное) – мотивирует акт художественного воображения, а стоящие за ним ценностно – смысловые противоречия, проблемы, конфликты (в первую очередь – нравственные), имеющие не энергетическую, а содержательно – информационную природу.
Любовь и художественная эмпатия . Эмпатия – второй важнейший компонент творческой фантазии, без которого невозможен процесс воображения, – выступает как идентификация, слияние «Я» художника с образами, где отражена действительность во всем ее многообразии: другие люди, природа, животные, предметы, произведения искусства, идеи и т. д. Среди факторов, стимулирующих идентификацию, важнейшее место занимает любовь к действительности.
Для доказательства обратимся вновь к творчеству Ван Гога. Сокровенный нерв таланта художника заключался в потребности откликнуться, сроднить свое «Я» с тем, что вне его, преодолеть замкнутость своей личности «внеположность» вещей, перелить себя в них. Выйти за границы своего «Я» и сродниться с «другим» художник стремится так, чтобы «другое» было для него привлекательным, чтобы он любил это «другое». «Нужна любовь, – писал Ван Гог, – чтобы трудиться и стать художником, по крайней мере для того, кто в своей работе ищет чувства, нужно чувствовать и жить сердцем» (8, 100). «Жить, работать и любить – это, в сущности, одно и то же», – утверждает художник. Любовь определяет выбор тех предметов, объектов, с которыми художник хочет слиться, идентифицироваться в акте творчества. Для Ван Гога среди тех явлений, что «он любит», по его признанию, постоянными были «море и рыбаки, поля и крестьяне, шахты и углекопы». В произведениях других художников, в картинах Израэльса, Бретона, Лермитта, в гравюрах английских графиков, но особенно в картинах Милле, он жадно выискивал, а найдя, сразу же влюблялся в то, что отвечало его пристрастиям. И напротив, о произведениях Риберы, Сальватора Розы, не созвучных его любви, Ван Гог пишет брату: не могу в них вчувствоваться. Он писал видимое так, как чувствовал, но не замыкался в своих чувствах. Личный опыт трудов, страданий и раздумий лишь делал художника особенно чутким и восприимчивым, сопереживающим.
Он с любовью зарисовывал бабочек на кочнах капусты, мышей ночью за едой, летучую мышь, птицу на ветке, цветистую птичку – рыболова, притаившуюся в камышах; при этом, вживаясь, он сумел передать «ощущение вольной птичьей жизни в ее естественной среде». В основе любви к природе, ее очеловечения, одушевления лежит принцип «антропоморфного» видения, который был присущ Ван Гогу и некоторым другим художникам. «Я словно бы вижу во всем душу», – говорил Ван Гог. «Смотреть на иву, как на живее существо», «Когда рисуешь дерево, трактовать его как фигуру» – таковы неизменные принципы его антропоморфного видения. В одном из ранних рисунков – «Этюд дерева» – художник, по его словам, старался одушевить пейзаж тем же чувством, что и фигуру, он словно создал «духовный» портрет дерева, пострадавшего от ветров и бурь, как человеческое тело – от житейских превратностей. В молодой пшенице было для него что – то невыразимо чистое, нежное, нечто пробуждающее такое же чувство, как, например, лицо спящего младенца. Затоптанная трава у дороги выглядела такой же усталой и запыленной, как и обитатели трущоб. Побитые морозом кочны савойской капусты напомнили ему кучку женщин в изношенных шалях и тонких платьишках, стоящих рано утром у лавчонки, где торгуют кипятком и углем.
По – видимому, способность к «одушевлению» и потребность в нем – универсальная черта художественного таланта. В этом убеждают как высказывания художников разных эпох и направлений, так и сами их произведения. Вот некоторые свидетельства мастеров изобразительного искусства.
Ж. Энгр. Если у вас есть время сделать точный набросок предмета, «возьмитесь за модель с любовью… чтобы впитать ее в свое сознание и чтобы она вросла в него, как ваша собственность» [28].
Ф. Рунге. «Не зарождается ли произведение искусства именно в тот момент, когда я проникаюсь чувством слияния с Вселенной?.. Это зарождение, пробуждаемое природой, которую мы ощущаем не только внутренне, но и в нашей любви…» [29].
Сезанн. «Я вдыхаю девственную чистоту вселенной… Я прихожу на мотив и теряюсь в нем. Смутно размышляю. Солнце мягко пронизывает меня, словно далекий друг, который подогревает мою разнеженность, оплодотворяет ее. Мы даем всходы».
Матисс. «Начинающий живописец должен почувствовать, что именно поможет ему слиться с природой, отождествить себя с ней, проникая в вещи (в то, что я называю натурой), которые затрагивают его чувства» [30].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: