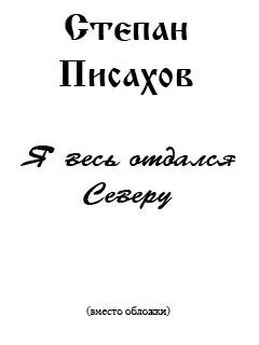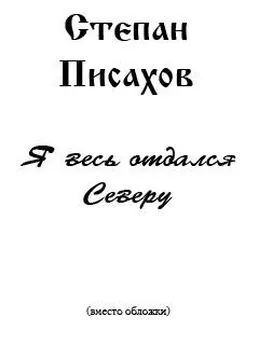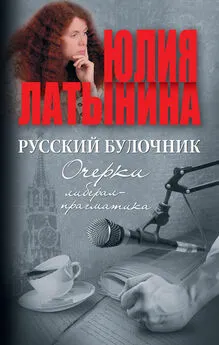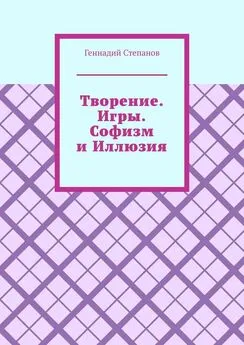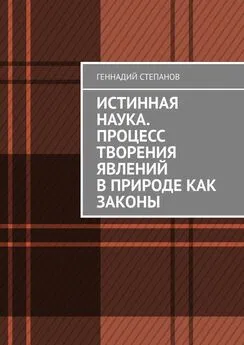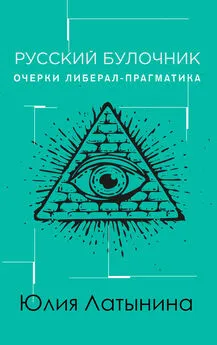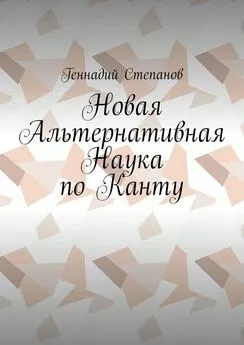Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Название:Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1257-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики краткое содержание
Книга представляет собой собрание эссе на тему насущных проблем истории искусства как практики возобновления смысла применительно к визуальной реальности прошлого. Ориентиром в этом начинании служит предельно монументальная фигура Эрнста Гомбриха – историка, но прежде всего теоретика истории искусства, достигшего в своей научной дискурсивности уровня подлинного творчества и обнажившего перформативные корни научного знания как такового. В лице Гомбриха и в сюжетах его взаимоотношений с иными личностями – Поппером, Варбургом, Панофским, Митчеллом, Прециози, Виндом и многими другими – обнаруживаются и сущностные аспекты науки как межличностной коммуникации внутри и по краям разнообразных концептуальных контекстов, что дает специфические иллюзорные эффекты, родственные эффектам достоверности, на которые, как обычно считается, способны лишь изобразительные искусства.
Книга будет полезна специалистам в области эстетики, психологии и философии, а равно и всем, интересующимся искусством и его интерпретацией.
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце своих заметок Гомбрих делает еще одну крайне важную и полезную оговорку – как всегда, полную остроумия и, как всегда, исходящую из повседневной жизни (то и другое, как мы знаем, имеет прямое отношение к бессознательному, а также – тоже, должно быть, бессознательно – к позднему Витгенштейну). Гомбрих сравнивает деятельность ученого с чтением, которое может быть и увлекательным, и не очень, чтением детективного романа и поваренной книги. Да, читать первый – дело более захватывающее, но только из второй мы можем выяснить, что десерт не подается перед супом. Конечно, иконология – очень затягивающее занятие, но некоторые обстоятельства требуют своего обязательного выяснения [275].
Но что заставило забыть о порядке подачи блюд? А точнее говоря, почему наука сравнивается с кулинарией или с трапезой? Похоже ли знание на питание? Оно всего лишь – пища для ума? В этом ли его польза?
И откуда образ детективной литературы? Несомненно, это общее место: поиск фактов и реконструкция событий – как сбор улик и восстановление места преступления, а использованию криминалистической метафоры применительно к искусству нас научили уже и Ломброзо (он еще до Фрейда связал творчество с помешательством), и Морелли (он подсказал Фрейду смысл детали). В этом смысле у Гомбриха – неплохая компания (к которой не трудно добавить бывшего врача, ставшего писателем, апологетом дедукции, а затем спиритом, – Конан Дойля, подарившего миру не только великого сыщика, но и очень странного ученого).
Открытие забытых или сокрытых фактов – это еще не наука, в нем есть знание, но нет познания. Пока мы не проясним смысл существования во времени, мы не сможем быть уверенными в науках гуманитарных, ведь забывчивость – еще не повод к поиску истины (сначала хорошо бы найти то, что потеряли, а не то, чем никогда не обладали). Поэтому так желательны некоторый заведомый порядок, правила, которым можно следовать и доверять, порой не задумываясь. Так делают, например, художники, следуя за тем или иным стилем, за которым может скрываться не только «форма», но и «норма», в том числе в форме «вкуса» [276], на физическом и феноменологическом уровне связанного, что бесконечно важно, с голосом и речью [277].
Но кто сказал, что Ренессанс не может следовать за Барокко? Только не книга, рассказывающая об основных понятиях истории искусства. Но кто сказал, что сладкое не может предшествовать горячему? Только книга, пусть и поваренная, но проверенная и потому достойная того, чтобы ей поверили и ей последовали ради приготовления пищи, питающей жизнь.
Дело в том, что сама жизнь зависит от иной Книги и иной Пищи – вкупе с иным Питием, которое мы хотя бы предвкушаем…
Гомбрих и Винд: ритуалы и мистерии в истории и жизни
И Венера покоряет своих интерпретаторов…
Эрнст ГомбрихМиф оживает в мистерии.
Эдгар ВиндОт патетики символа к экстатике программы
Итак, не только символы преследуют тех, кто обратил на них внимание, кто преодолел, казалось бы, а-патию повседневного и «естественного» существования, кто испытал весь патос обращения к трансцендентному и нуминозному. За всем этим стоит и патетика, и, главное, экстатика ритуала и мифа, требующего активного к себе отношения – втягивающего в свои игры и представления на той сцене, что именуется в лучшем случае историей. На этих подмостках и символ, и его интерпретатор – всего лишь актеры, а автор весьма сокрыт.
Попробуем предварительно взглянуть на один текст Эрнста Гомбриха, касающийся иконологии, с надеждой на возможную корректуру несколько недоуменного впечатления от Гомбриха, выступающего в роли критика-фальсификатора иконологии, ставшей идеологией.
Напомним, что таковым он предстает, по нашему мнению, в своем основополагающем тексте на эту тему. Мы имеем в виду его Предисловие к сборнику «Symbolic Images» [278]. Статья начинается с эпиграфа – знаменитой фразы Панофского:
Одна из общепризнанных опасностей, поджидающих иконологию, заключается в том, что она поведет себя не как этнология по отношению к этнографии, а как астрология – по отношению к астрографии.
Конечно, Панофский этим своим bon mot обозначает свои рационалистические притязания по отношению к мыслительному и жизненному наследию Варбурга, вовсе не чуждого буквальному восприятию всякого рода магизма. Но заметим, что тема предрекаемой от рождения судьбы звучит и в тексте Гомбриха, своим неумолимым отвержением (именно в этом позднем тексте) иконологии отчасти бессознательно сопротивляющегося всякой и тем более метафизической несвободе (пусть и предначертанной на метапсихическом уровне). Если он начал когда-то свое научное поприще всецело внутри иконологического проекта, воплощенного в Библиотеке Варбурга, то это не значит, что он не обладает правом обособления и отстранения, тем более что он ведет речь об уже переродившейся к концу 60-х годов иконологии, будучи и сам вовсе не безработным венским искусствоведом, еле спасшимся от нацизма, а директором этой самой библиотеки!..
В результате, как мы надеемся, станет понятно, что Гомбрих склонен защищать прежде всего человеческую личность, которая для него в первую очередь – чувствующая и переживающая, а уже потом – мыслящая и постигающая. И тогда в качестве фальсифицирующей силы будет выступать еще один иконолог, еще одна фигура из самого ближнего круга последователей Варбурга, первый ученик первейшего из учеников – Эдгар Винд [279].
Уже обсуждавшаяся здесь идея эпистемологического синтетизма впервые и, главное, программно (см. выше) воплощается Гомбрихом в статье 1945 г. о «Мифологиях Боттичелли…» [280].
Статья посвящена программе как единственно допустимому предмету исторической реконструкции и сама является программой. И, кстати, согласно Гомбриху, именно программа его эссе – предмет критики со стороны оппонентов [281]. Гомбрих безбоязненно приводит в своем «Предисловии как послесловии» к сборнику 1972 г. обширнейший список критиков своего текста, подчеркивая при этом, что он остается вполне удовлетворенным своим текстом, хотя и готов внести коррективы. Тем не менее этот откровенно почетный список стоит воспроизвести: в него входят и Андре Шастель, и Эрвин Панофский, и Эдгар Винд, и Вильгельм Хекшер, и Пьер Франкастель. Так что программно и переиздание – реинтерпретация и реинкарнация – статьи 40-х годов и идей тогдашнего Гомбриха: «программа», заложенная в произведении, – это и программа, и сценарий действий-реакций для пользователя-реципиента, и инструкция для исследователя-герменевта.
Но эта программа вместе с тем и инструмент, с одной стороны, решения философских проблем с помощью их визуализации («род философской диаграммы», помогающей в изучении божественной иероглифики), а с другой – пробуждения силы тех божеств, если не их самих, хотя бы «из почтения к их обличью и их влиянию». (Реальная мистериальность, казалось бы, банальной аллегорической персонификации, превращаемой в подлинную реинкарнацию древних сил, конечно, в контексте платонического способа мышления и поведения [282].)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: