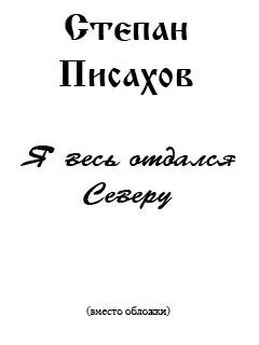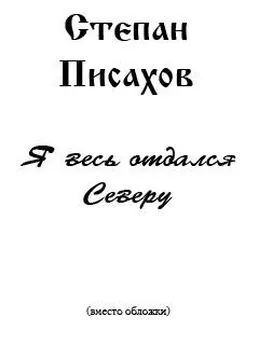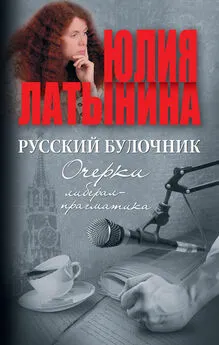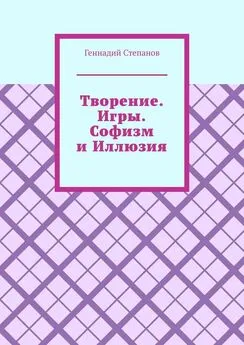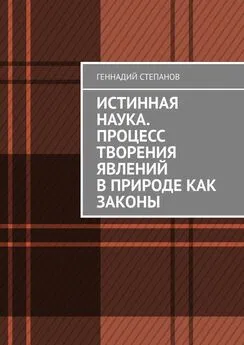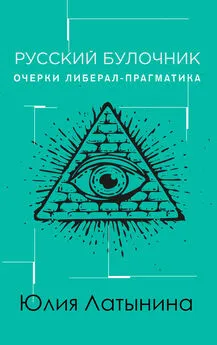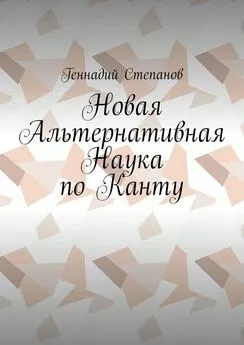Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Название:Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1257-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Ванеян - Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики краткое содержание
Книга представляет собой собрание эссе на тему насущных проблем истории искусства как практики возобновления смысла применительно к визуальной реальности прошлого. Ориентиром в этом начинании служит предельно монументальная фигура Эрнста Гомбриха – историка, но прежде всего теоретика истории искусства, достигшего в своей научной дискурсивности уровня подлинного творчества и обнажившего перформативные корни научного знания как такового. В лице Гомбриха и в сюжетах его взаимоотношений с иными личностями – Поппером, Варбургом, Панофским, Митчеллом, Прециози, Виндом и многими другими – обнаруживаются и сущностные аспекты науки как межличностной коммуникации внутри и по краям разнообразных концептуальных контекстов, что дает специфические иллюзорные эффекты, родственные эффектам достоверности, на которые, как обычно считается, способны лишь изобразительные искусства.
Книга будет полезна специалистам в области эстетики, психологии и философии, а равно и всем, интересующимся искусством и его интерпретацией.
Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последнему аспекту символизма как средству теургии посвящено немало самых серьезных страниц и эссе «Icones symbolicae». Заметим сразу, что и здесь – в случае подобного неоплатонического реализма – Гомбрих видит сугубо методологические импликации (если это способ мышления, то почему бы ему не быть релевантным и в контексте историко-культурных исследований, тем более что любое исследование по истории идей не просто реконструирует, а буквально «ревайвализирует» эти идеи со всей их властью и силой). Все это – к вопросу о ценностных измерениях науки, никак не обходящейся если не без веры, то хотя бы не без уверенности…
Так что эссе содержит несколько программ. Первая программа заключается в одном немаловажном постулате: написание данного текста обусловлено сугубо методологическим замыслом. Суть этой методологии, вернее сказать, методологической стратегии заключается в обнаружении такого текста, который бы соответствовал изображению на жанровом уровне (вспомним уже упомянутого Хирша!). При том что под жанром понимается именно функция изображения, его модальность, которая способна выступать в качестве визуального эквивалента письму как таковому: как письмо – способ обращения со звуками и словами, так и изображение – это техника обращения со зрением и прочими человеческими практиками.
От физиогномического театра к дидактическому ритуалу
Отметим сразу, что момент и аспект письма как жеста, движения, экспрессивной и телесной динамики (варбургианская идея, не раз воспроизводимая Гомбрихом) имеет в живописи эквивалентом не только собственно процесс написания картины как наложения мазков (хотя это в высшей степени важно, так как воспроизводит темперамент). Этим эквивалентом оказывается уровень собственно изобразительный – та самая физиогномика, ради сугубой важности которой Гомбрих не гнушается упоминать и Людвига Клагеса, к идеям которого он, между прочим, обращался уже в своей докторской диссертации. Эта самая физиогномика, картина как эмоционально и интеллектуально интригующее зрелище, как истинный и буквальный spectaculum, постановка сродни театральной (тоже идея Варбурга). Вот что роднит, по мнению Гомбриха, живопись с литературой и что легитимирует или хотя бы оправдывает поиски текстов (но не источников), объясняющих содержание изображения не как простой иллюстрации или вдохновленной литературой поэзии, а именно как программ, то есть комплексов значений, имеющих характер ценностных моментов смысла (вокативно-риторическое значение «для», а не денотативно-нарративное «чего»).
И вот в этом случае жанр-функция, делающая текст эквивалентом изображения, а его, в свою очередь, аналогом текстуальности как таковой, оказывается типом текста вполне определенного сорта: это текст не философский, не поэтический, не богословский, а дидактический, имеющий прямое педагогическое предназначение. Дидактика же озабочена своей убедительностью и доходчивостью. Поэтому она есть и самая настоящая риторика. Имея такое, повторимся, предназначение, осознанный замысел как повод для составления текста, эта риторика и выступает как основание и условие программности. Это тот комплекс или система идей, что буквально программируют, говоря компьютерным языком, будущее изображение, вернее сказать, сам процесс, порядок и результат его составления.
Но речь идет не только о комплексе мыслей или идей: куда важнее – и в том числе для концепции Гомбриха, – что в этой программе (вспомним опять физиогномику [283]) обязательно должна быть заложена и эмоциональная, равно как и волевая, составляющая (эти тексты и эти образы воспитывают и воздействуют).
Вот каким признакам должна соответствовать текстуальная составляющая изображения. И в случае с Боттичелли такой текст, точнее сказать, такую программу (а также текст, легший в основание программы) можно отыскать.
Для этого достаточно обратиться к условиям и обстоятельствам создания картины. Они связаны не только с Боттичелли и его вероятным заказчиком Лоренцо ди Пьерфранческо (кузеном Лоренцо Великолепного) и не столько с наставником младшего Лоренцо – Марсилио Фичино, сколько с намерением последнего влиять на образ мыслей, чувств и намерений своего юного (15-летнего) ученика, которому не так-то просто было привить правильные мысли простыми отвлеченными наставлениями. Их следовало облечь в соответствующую форму, чтобы она была интересной и неудержимо привлекательной. Так появляются и рассуждения о Венере-нимфе – воплощении или персонификации добродетели, именуемой «гуманностью», и сама обнаженная и крайне интригующая фигура (вспомним иные рассуждения Гомбриха, указывающего на первичные, биологические и прямо эротические слои визуальной суггестии).
Именно это характерное выражение лица Венеры – амбивалентное и неуловимое, привлекательное в своей неопределенности – стало исходным моментом рассуждений Гомбриха. Может вызвать вопрос лишь частный характер этого мотива-детали – выражение лица. Но, если следовать постулатам экспрессивнотелесной эстетики, лицо включает в себя и являет собой всю экспрессивную пластику и динамику. На этом настаивает и Варбург, которому Гомбрих усердно отдает должное: мотив движения мотивирует, приводит в движение всю изобразительную структуру, причем и на формальном, и на семантическом уровне.
После этого найдены были и письма Фичино с соответствующим адресатом и соответствующими морально-астрологическими рассуждениями, и круг тех гуманистов, что участвовали в воспитании Лоренцо Малого, и, конечно же, тот текст, что стал основой, повторим и подчеркнем, именно дидактической программы, – Апулей и его описание Венеры.
Следует сразу сказать, что Апулей опять-таки не источник содержания гипотетической программы наставников юного Лоренцо ди Пьерфранческо и молодого Сандро Боттичелли, функция его текста сложнее и заключена в создании контекста – но не для программы, а для самого процесса инвенции и исполнения «текста», именуемого «Весной». Но это не только контекст, а нечто еще более существенное: это сам способ подачи, представления содержания. У этого текста – тот же модус.
Остановимся на этом моменте чуть подробнее: в нем, как нам кажется, ключ к самому Гомбриху и к его варианту иконологии… Описание Венеры у Апулея (напомним, что Фичино связывает именно это античное божество с небесной нимфой гуманности) построено как описание некоей сцены: перед глазами автора «Золотого осла» как будто рисовалась театральная постановка, впечатление от которой он и воспроизводит словесно. Перед глазами читателя возникает
диспозиция, облик и жесты фигур, которые не только способствуют визуализации, но вполне положительно отвечают за свою реконструкцию в живописи [284],
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: