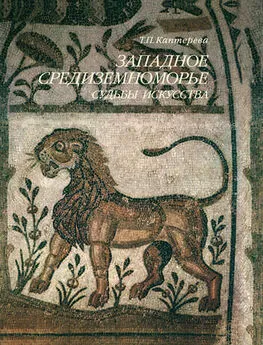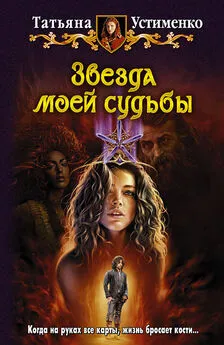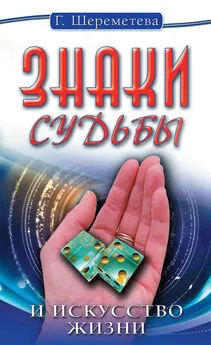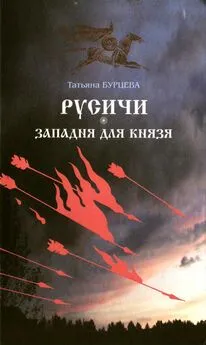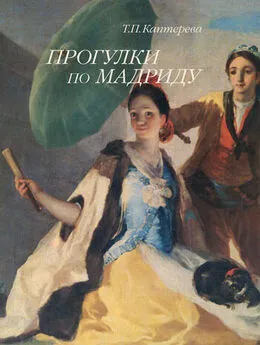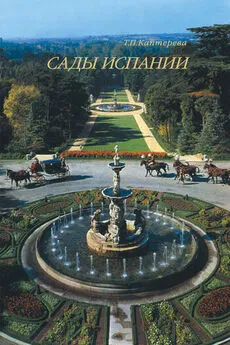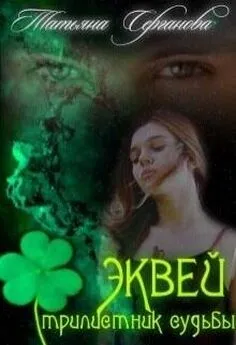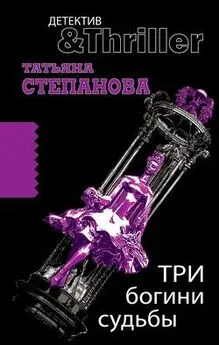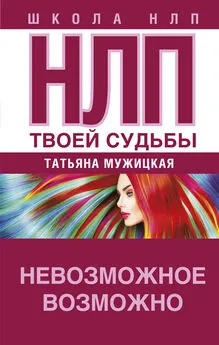Татьяна Каптерева - Западное Средиземноморье. Судьбы искусства
- Название:Западное Средиземноморье. Судьбы искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:1-978-5-89826-348-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Каптерева - Западное Средиземноморье. Судьбы искусства краткое содержание
Западное Средиземноморье. Судьбы искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Постепенно в Финикии и ее колониях стала складываться храмовая архитектура. Основная тенденция состояла в строительстве небольших храмов-капелл, которые служили вместилищем священного бетила или культовой статуи. К такому типу принадлежит Маабед (то есть «храм») VII-VI веков до н. э. в Амрите (Марафус) в северной Финикии. Среди прямоугольного двора (25x48 м), высеченного в скале и обнесенного внутри галереей, по ставлена огромная каменная глыба, на которой воздвигнут сложенный из крупных блоков камня наос, покрытый плоским монолитом и увенчанный карнизом с формой выкружки, называемой «египетским горлом». Подобный простой и тяжелый карниз с вогнутой выкружкой поверх толстого валика, который покоится непосредственно на архитравной балке, – неизменный мотив древнеегипетского зодчества – стал одной из характерных и устойчивых примет финикийских и карфагенских построек. Знаменитый во всем античном мире храм Мелькарта-Геракла в испанском Гадесе (Кадисе), упоминания о котором относятся к IV веку до н. э., исчез бесследно. Его древнейший облик, по-видимому, следовал традиции финикийских открытых святилищ с каменным храмом-капеллой в центре.
О характере древнейших памятников пунического культового зодчества позволяют судить раскопки карфагенского «тофета», где урны с пеплом жертв ставились под маленькие каменные алтари или помещались в их углублениях. Алтари или крошечные капеллы (0,5–0,6 м высоты) имели разную форму: то собственно алтаря в миниатюре, то трона для священного бетила, но чаще представляли собой каменные столпообразные сооружения из пористого известняка, которые в уменьшенной и упрощенной форме воспроизводили как бы фасад здания с архитектурными элементами финикийско-египетского происхождения. Обычно прямоугольник алтаря с наосом или ложным входом в центре обрамлялся массивными пилястрами и завершался тяжелым карнизом «египетского горла». Под карнизом располагался фриз, украшенный божественными символами – солярным диском с крыльями, священными змеями – уреями и некоторыми декоративными мотивами, например финикийскими пальметками, а также символическими знаками. Иногда столб-алтарь возвышался на массивном каменном основании. Можно вообразить себе, как выглядели эти небольшие мрачноватые пунические храмы VII–VI веков до н. э. с выделенным приземистым входом, которые напоминали финикийские «капеллы», подобные святилищу в Амрите. Их суровый монолитный массив восходил к культу священного камня.
Постепенно в архитектуру Карфагена проникло греческое влияние. В V веке до н. э. вместо тяжелых алтарей-столбов появились типы более легких стел из песчаника, обелисков с пирамидальным завершением, а затем плоских плит с треугольным фронтоном. Возник образ нового, уже греческого «храма» с акротериями, колонками и античными декоративными мотивами. Колонны обрамляли вход в храм, образуя портик. Но иногда колонна изображалась как бы независимо от своих архитектурных функций, одинокой в центре стелы, где она служила «подставкой» для какого-нибудь символического предмета. Подобный мотив несомненно восходил к финикийской традиции воздвижения изолированно стоящих колонн – прообраз бетилов. Наряду с архаической ионийской капителью с сильно изогнутым каналом между волютами применялись и более сложные, близкие к кипрским формы растительной капители, которая включала цветок лотоса.
Храмы в этот период стали украшаться статуями пунических божеств. Не случайно, согласно свидетельству Страбона, поздний Карфаген напоминал эллинистические города.
Большую роль в архитектуре пунийцев играл строительный материал. Финикийцы были мастерами обработки камня и великолепными плотниками. Без сомнения, карфагеняне утвердили в Африке эти многовековые навыки строительного дела. Из дерева им приходилось сооружать свой огромный флот. Но для украшения зданий жители Карфагена не употребляли редкий в Африке мрамор. Их строительные приемы отличались тем житейским практицизмом, который диктовал строителям применять более дешевые, легко поддающиеся обработке местные породы песчаника, грубые необработанные блоки камня, забутовку стен и фундаментов на известняковом или глиняном растворе, строить из камня и вместе с тем не отказываться от простой глинобитной техники. Они широко использовали, как уже отмечалось выше, штукатурку и побелку зданий, внутри покрывали стены рельефным стуком, иногда красили их в красный цвет или украшали живописью.
Пуническое зодчество вне зависимости от того, использовало ли оно египетские, финикийские или греческие мотивы, тяготело к упрощенности и архаизации. Обычно архаическим эпохам искусства присуще своеобразное обаяние, наивная свежесть в восприятии и эстетическом осмыслении окружающего мира. Искусство Карфагена, особенно в позднюю эпоху, не обладало этой первичностью художественного ощущения. В нарастающей архаизации и бедности его пластических форм сказывались провинциализм и запоздалое подражание уходящим стилям древности.
Представление об изобразительном искусстве Карфагена основывается на материале археологических раскопок в некрополях VII–II веков до н. э., опоясывающих город. Были найдены самые разнообразные предметы: саркофаги, статуэтки, терракотовые маски, амулеты, ювелирные украшения, фигурки сфинксов, сосуды, глиняные светильники, курильницы для благовоний; разнообразные изделия из металла: секиры, молотки, железные ножи, крючки для удочек, булавки, сосуды, лопатки, цимбалы, звоночки, круглые зеркала из бронзы, медные бляхи, священные бритвы-топорики; стеклянные флакончики и пузырьки для благовоний, миниатюрная мебель из камня, раковины для румян, магические таблички, коробочки, безделушки, расписная скорлупа страусовых яиц в виде масок или чаш. Собрание одних амулетов П. Сэнта классифицировал по разделам: скарабеи, маски, медальоны, фигурки богов, зверей, знаки (например, «глаз», «рука», «алтарь»), футляры, пластины.
Перечисление многочисленных предметов погребального инвентаря свидетельствует о том, что искусство пунийцев, как и финикийское искусство, тяготело к созданию малых прикладных форм. Следует предположить, что именно эти формы оставались в Карфагене основной областью художественного творчества, во всяком случае на более ранних этапах. Трудно судить о том, были ли все предметы объединены общей ритуальной идеей. Однако по сравнению с древнеегипетскими карфагенские погребения, которые принадлежали зажиточным слоям общества, выглядели на редкость скромно.
Сам характер эсхатологии пунийцев мало изучен. Но несомненно, что их представление о потустороннем существовании, как и у других древних семитских народов, не облекалось в развитые, связные и сложные формы. Оно не предполагало, видимо, долгих странствий усопшего в загробном мире, а восприятие этого мира как иной формы земного бытия в значительной мере упрощалось. Пребывание умершего в погребальной камере среди различных бытовых предметов, безделушек, масок и статуэток в основном символического и охранительного характера не нуждалось в том образном «ансамблевом» решении, которое отличало заупокойные культы у других народов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: