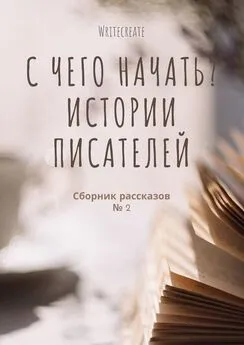Марина Торопыгина - Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга
- Название:Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-438-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Торопыгина - Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей: как ученым специалистам, так и студентам, интересующимся историей искусства и историей науки, культурологией, психологией, философией.
Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в тех случаях, когда он обращается к художественным произведениям, он расшифровывает их как сновидения. Хотя на самом деле Фрейд скорее использует примеры из жизнеописаний известных личностей (Леонардо да Винчи) [186]и памятники искусства (например фигуру Моисея у Микеланджело), [187]чтобы проиллюстрировать положения собственной теории.
В топографической модели психики Фрейд различает три уровня: Подсознание (Оно) производит первичные импульсы, связанные с агрессией или сексуальными желаниями (либидо); эти импульсы подвергаются цензуре Сверх-Я, а в центре конфликта Оно и Сверх-Я (а вернее, в качестве тонкой пленки-границы между ними) оказывается Эго (Я), которое и вытесняет в виде образов (во сне или художественной деятельности) те события и желания, которые являются запретными. Так импульсы обретают образ, появляются на пороге сознания и оказываются доступны в процессе коммуникации (с врачом-психоаналитиком или со зрителем).
В сновидениях Фрейд различает содержание сна (Trauminhalt) и реализуемую во сне идею (Traumgedanken), причем содержание понимается как перевод идеи на другой язык или на язык образов и знаков. Их сочетание во сне может быть абсурдным с точки зрения здравого смысла, так что для толкования сновидения нужно буквально прочитывать последовательность образов и знаков как шараду, открывая за ними смысл и содержание сна. [188]Механизмы работы сна Фрейд обозначает как сгущение (Verdichtung) [189]и смещение (Veschiebung), что примерно соответствует работе языка по созданию тропов: метафоры и метонимии. Анализируя сновидения, Фрейд истолковывает слова, которые используются для описания событий сна; а поскольку слова многозначны, толкование-понимание осложняются. Сам он специально подчеркивает, что достаточно трудно решить, в каком смысле истолковать элемент сна: он может быть использован в негативном или позитивном смысле (Gegensatzrelation); может быть истолкован исторически (как реминисценция), а также символически; еще один вариант – толкование связано со словом, которое обозначает увиденный во сне образ. В этом смысле Фрейд сравнивает свой метод разъяснения сновидений с чтением старинных иероглифов – ведь иероглифы могут быть прочитаны как непосредственные знаки (человек, птица – или как часть звучащего слова). Однако в отличие от иероглифов сны создаются не для прочтения – они, как считал Фрейд, как раз не желают быть понятыми, поэтому и шифруют себя. [190]
Подобно сновидению, художественное произведение в целом выступает как проводник оформленных подсознательных импульсов. Фрейд касается этого вопроса в том числе и в работе «Воспоминание детства Леонардо да Винчи»: художественная, как и любая другая духовная деятельность замещает подлинную активность инстинктивной жизни. Энергия индивидуума направляется на новый объект, который замещает неудовлетворенные чувства и объект желания. В случае художественного произведения этот объект обретает форму, которая может быть принята обществом. Произведение искусства тем самым не только служит незаинтересованному эстетическому «удовольствию», но и одновременно скрывает собственно биологическое содержание (например сексуальное желание или агрессию). Соответственно, не только художнику, но и зрителю предоставляется возможность испытать удовлетворение, поддавшись запретным чувствам в цивилизованной форме обращения к искусству.
Таким образом, произведение искусства становится в интерпретации Фрейда тоже символом, но только в более узком смысле – то есть симптомом, указывающим на психические конфликты, на темную сторону человеческой личности, которая, однако, может преодолеваться. Преодоление (сублимация) при этом понимается как движущая сила творческого процесса и искусства в целом. [191]В определенном смысле Фрейд здесь оказывается близок немецким романтикам: только то, что раньше описывалось в виде туманных предчувствий и представлений об укорененности символа в бессознательном, снах и природе, у Фрейда подверглось рациональной интерпретации в духе позитивизма. Томас Манн обозначил это как «романтику, лишенную мистики и ставшую естественной наукой». [192]И хотя Фрейда часто обвиняют в том, что он сводит все к неудовлетворенной агрессии и сексуальным желаниям, не нужно забывать, что Фрейд полемизирует с предшественниками, в том числе Ч. Ломброзо и М. Нордау, в работах которых биологическая детерминация была гораздо более жесткой и существовала в виде диагноза. В отличие от них Фрейд как раз говорит о возможности исцеления-преодоления путем анализа и формирования осознанного отношения к собственной психике. Символ, произведение искусства и человеческая культура в целом – симптомы неразрешенного конфликта, а диагностика и просвещенное сознание способствуют выходу из замкнутого круга.
Ученик и оппонент Фрейда Карл Густав Юнг признавал, что Фрейд был первым, кто обратился к эмпирическому изучению бессознательной стороны человеческой психики – но одновременно, как полагал Юнг, Фрейд дискредитировал представление о человеческой психике, превратив ее в склад вытесненных примитивных желаний. [193]По мнению Юнга, то, что Фрейд называет символами, на самом деле – просто знаки или симптомы процессов бессознательного, которые определены и описаны самим Фрейдом. Подлинный же символ, по Юнгу, надо понимать как выражение для идеи, которую пока еще невозможно обрисовать иным, более совершенным образом. Разницу в понимании символа Юнг остроумно иллюстрирует на примере платоновской пещеры, образа, который, как он абсолютно убежден, связан с проблемой гносеологии. Но если вести интерпретацию по Фрейду, то можно прийти к теме материнского чрева и т. д. – тем самым фрейдист мог бы доказать, что и Платон, подобно другим смертным, имел инфантильно-сексуальные фантазии, – но в этом случае он прошел бы мимо самого существенного. [194]
Юнг полагает, что не следует ограничивать интерпретацию образов сновидения и творческой активности индивидуальным бессознательным. Ведь в этом случае образы оказываются привязаны к известным фактам (наличие сексуальных желаний, подавленная агрессия и т. д.), которые во сне выступают лишь «переодетыми». Юнг возвращает психоанализ к сакральным истокам и вводит понятие коллективного бессознательного, отличающегося от индивидуального своей принципиальной непознаваемостью. Коллективное бессознательное, с одной стороны, вполне реально, а с другой – существует как зона потенциальных возможностей индивидуального бессознательного, обеспечивая ему мистериальный опыт встречи с иным, трансцендентным, инородным, чужим, абсолютно непохожим – и определяя тем самым начало всякого религиозного чувства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


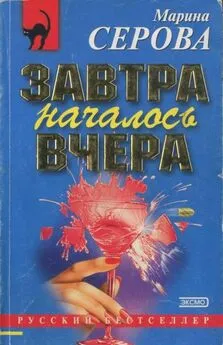
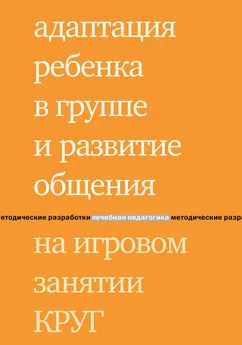
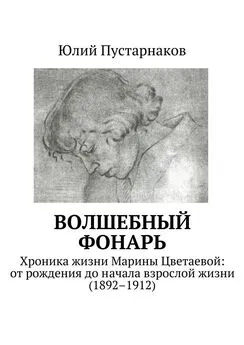
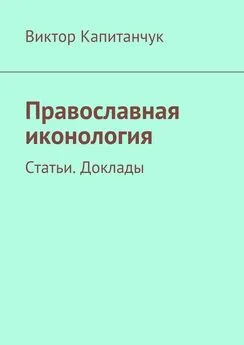
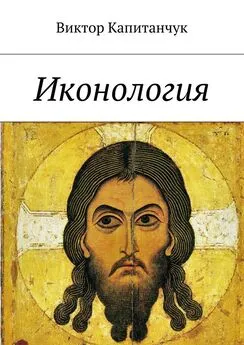
![Богданова Марина(Яутжа) - Кали: Начало [СИ]](/books/1092044/bogdanova-marina-yautzha-kali-nachalo-si.webp)