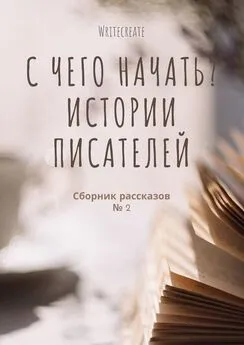Марина Торопыгина - Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга
- Название:Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-438-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Торопыгина - Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей: как ученым специалистам, так и студентам, интересующимся историей искусства и историей науки, культурологией, психологией, философией.
Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В религиозной сфере символ понимается в совершенно объективном смысле – это не метафора. Он представляет собой нечто непосредственно действительное и действенное (unmittelbar Wirkliches, unmittelbar Wirksames). Но в то же время символ – это мистерия, которой противостоит профанно-ясная реальность.
В эстетическом смысле символ, как отмечает Кассирер, наоборот, утрачивает свою вещную реальность – но зато на первый план выходит принадлежность к сфере идеального. «Во всей спекулятивной эстетике – от Плотина до Гегеля – понятие и проблема символического возникает именно в том пункте, где речь идет о том, чтобы определить соотношение мира чувственного и мира умопостигаемого, соотношение явления (Erscheinung) и идеи (Idee). Прекрасное по своей сути и необходимо является символом, именно потому и в той степени, в которой оно разделено в себе самом (in sich selbst gespalten), поскольку оно всегда и везде является единым и двойственным (weil es immer und überall eins und doppelt ist). И в этой своей двойственности, в этой привязанности к чувственному и выходе за пределы чувственного оно не только выражает напряжение, которое проходит через мир нашего сознания, но в этом и раскрывается исходная и основополагающая полярность самого бытия – диалектика, которая существует между конечным и бесконечным, между абсолютной идеей – и ее представлением и воплощением внутри мира единичного, эмпирически существующего (des empirisch Daseienden)». [201]
В поисках той единой нити, которая могла бы связать различные понимания символа в ходе развития этого понятия, Кассирер прибегает к примеру: предположим, перед нами некая кривая линия – мы можем воспринимать ее как некую оптическую структуру, пространственное построение. [202]Однако в процессе наблюдения и изучения мы открываем в этом построении структуру орнамента и можем рассматривать данную линию как эстетическую структуру, с которой связан определенный художественный смысл (künstlerischer Sinnn), определенная художественная значимость (Bedeutsamkeit). Но более того – орнамент представляет собой отрезок художественного языка, в котором мы узнаем стиль определенной эпохи. И за конкретным переживанием оптической структуры, орнамента нам открывается стиль как художественная воля времени (Kunstwille der Zeit). Но форма созерцания (Betrachtung) может измениться еще раз: та же самая линия-орнамент может быть носителем мистико-религиозного значения. Оно возникает, когда я не просто воспринимаю эту линию со стороны, а когда то, что я вижу, захватывает меня внутренне – в этот момент образ (Gestalt) оказывается наполнен и проникнут новым смыслом – и превращается в откровение из иного мира. То есть одна и та же линия, форма, гештальт по-разному открывается в зависимости от того, кто смотрит и видит. Здесь Кассирер ссылается на Платона, заметившего, что для астронома важны не созвездия сами по себе, а то, что они служат ему парадигмой, в которой открывается природа движения. За непосредственно данным образом (Gestalt) он открывает нечто, что закрыто для созерцания – ему отрывается внутренняя закономерность, закон, на котором построена его математическая мысль.
И пример с линией, и ссылка на Платона позволяют Кассиреру показать, что человек включает первичное чувственное переживание (sinnliches Grunderlebnis) в различные символические формы (курсив Кассирера) и благодаря этому может определять и оформлять его. Символические формы – это различные способы или модусы, с помощью которых человек понимает окружающий его мир. Здесь Кассирер расширяет проблему познания мира, как ее понимал Кант, до понимания мира. А символическими формами при этом выступают язык, миф и научное мышление; впоследствии Кассирер прибавит к ним искусство, а его ученик Эрвин Панофский будет рассматривать как частный случай символической формы прием, которым человек пользуется для изображения трехмерного пространства на плоскости – перспективу в живописи.
Тема символа будет занимать и современников Кассирера, и новые поколения: от Анри Бергсона до Сьюзан Лангер. Необыкновенная притягательность этого емкого понятия делает его своего рода обязательным элементом теоретического и критического дискурса. Но значения понятия «символ» могут быть различными. И возвращаясь к теме нашей книги, позволим себе предположить, что в таком случае и само понятие на пути превращения в термин (в конкретном дискурсе) может выступить в роли своеобразного символа, который выражает, представляет и обозначает мир своего интерпретатора.
Аби Варбург и его символы «Dulebstund Tust Mir Nichts»

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1486 г. Фрагмент
Подвижная деталь
Indeed, I have found that it is usually in unimportant matters that there is a field for the observation and for the quick analysis of cause and effect which gives the charm to an investigation.
Sir Arthur Conan Doyle [203]Caress the details!
Владимир Набоков [204]В своей диссертации о Боттичелли 1891 г. [205]Варбург вводит понятие «детали» как смыслоразличительной единицы. Анализируются две картины – «Весна» и «Рождение Венеры»; в обоих случаях речь идет о необычной для того времени (15 в.) иконографии. В поисках образца Варбург обращается не к живописи, а к текстам – и уже само по себе определение литературных источников для этих работ можно считать достижением Варбурга. Во вступлении к работе Варбург определяет свою задачу как попытку сопоставить изображение, с одной стороны, и с другой стороны, текст (выражающий соответствующие представления поэтов и теоретиков искусства) с тем, чтобы прояснить сам механизм заимствования образцов из античных источников. В своем анализе он фокусируется не на главных персонажах, а на вспомогательных, вторичных мотивах, – способе передачи движения. Его интересует небольшая деталь – развевающиеся волосы. И с помощью этой детали он пытается показать, каким образом флорентийские художники и поэты усваивают и транслируют формообразования прошедшей эпохи.
Итак, в основе работ Боттичелли – тексты античных авторов (Гомера, Овидия) и современных итальянских поэтов, подражающих античным образцам (Полициано). При этом Варбург предполагает, что Полициано был одним из авторов иконографической программы картин. Обе работы, как считает Варбург, посвящены ушедшей из жизни красавице Симонетте Веспуччи – именно она изображена в образе богини весны, встречающей Венеру в «Рождении Венеры», и богини, несущей цветы в картине «Весна».
Мотив движения важен уже потому, что он по-разному описан в античном источнике и у Полициано. Если у Гомера в гимне Венере говорится о «бурном дыхании Зефира» (des Zephyros schwellender Windhauch), [206]то у Полициано это – много ветров, дуновение которых мы видим – mehrere Winde, deren Blasen man sieht – «vero il soffiar di venti». [207]Некоторые детали описания, как то, что ветер при этом «завивает ниспадающие волосы Венеры и сопровождающих ее Ор (богинь времен года), Полициано добавляет в описание самостоятельно. И именно у Полициано богиня выходит из раковины – у Гомера она просто появляется на волнах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


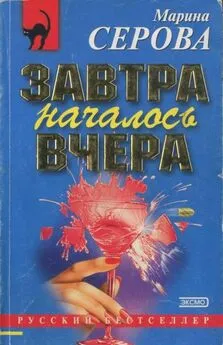
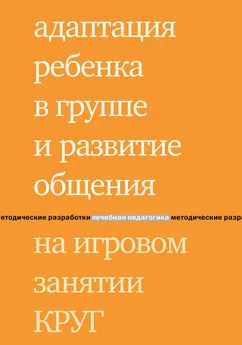
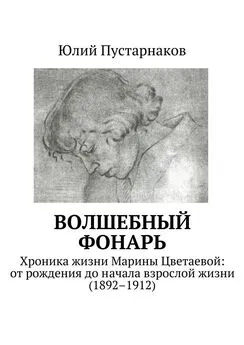
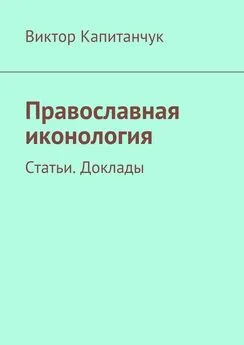
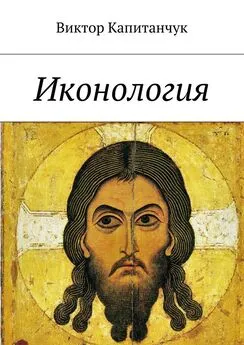
![Богданова Марина(Яутжа) - Кали: Начало [СИ]](/books/1092044/bogdanova-marina-yautzha-kali-nachalo-si.webp)