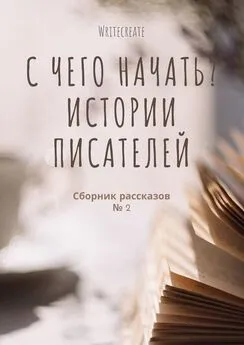Марина Торопыгина - Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга
- Название:Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-438-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Торопыгина - Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей: как ученым специалистам, так и студентам, интересующимся историей искусства и историей науки, культурологией, психологией, философией.
Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тема нимфы появляется не только в изобразительном искусстве. Исследовательница Зигрид Вайгель комментирует цитату, в которой Варбург называет нимфу «духом природы» и «богиней в изгнании» (Elementargeist, Göttin im Exil). Вайгель видит здесь явную отсылку к двум текстам Г. Гейне: один называется «Cötter im Exil», другой – «Elementargeister». В «Cötter im Exil» (1853) Гейне пишет о «переменах, которые претерпели греко-римские боги, когда христианская религия стала мировой – и не только народная вера, но и церковная приписала им реальное, но проклятое существование». [221]При этом боги «не умерли, а лишь спрятались в горных пещерах и руинах храмов». [222]
Эта тема намечается у Варбурга еще в диссертации о Боттичелли, где развевающиеся волосы обозначаются как «прическа нимфы» (Nyphenhaartracht). В работе «Последнее волеизъявление Франческо Сассетти» (1907) [223]нимфа появится в образе Фортуны. Она же, замечает Варбург, может выступать как амазонка, Ариадна, Медея, богиня победы с римской триумфальной арки. Появится нимфа и в знаменитом докладе об астрологических символах в палаццо Скифанойя.
Нимфа оказывается общим понятием для различных образов, воплощающих раскрепощенную женственность и энергию в движении: от воинственной охотницы за головами (Kopfägerin) – до ангелоподобной мечтательницы; в кройцлингенском докладе 1923 г. она обернется танцующей со змеями менадой.
Для начала 20 в. нимфо-мания оказалась явлением заметным: начиная от женских образов Климта, свободных платьев-«реформ», до нимфеток у Набокова, «Градивы» Йенсена и ее последующей интерпретации у Фрейда. Э. Гомбрих усматривает в этом зачарованность женским телом и любовь к стилистике модерна в целом, с его подвижным орнаментом и танцами босоногой Айседоры Дункан. [224]В этом же ряду и персонаж Франка Ведекинда Дулу, и танцовщица Лои Фуллер, демонстрирующая на всемирной выставке «змеиный танец» (serpentine dance). Понятно, что для Э. Гомбриха, жившего в Вене, контекст был очевиден: искусство Сецессиона, живопись Климта и Мухи, психоанализ Фрейда. Если попытаться объединить «нимф» с точки зрения юнгианской теории архетипов – тогда иконографические варианты этой фигуры есть не что иное, как различные воплощения «анимы».
В рассуждениях Варбурга «нимфа» лишена своего «иконографического прошлого» – у Гирландайо она не может быть идентифицирована как персонаж: что делает нимфа-менада-Виктория в сцене рождества Иоанна Крестителя? Даже если допустить, что это Диана, помогающая женщинам при родах, то почему она несет корзину с фруктами? Гораздо важнее для методологии Варбурга то, что нимфа есть та же подвижная деталь, только персонифицированная. Ведь подвижные детали лишены самостоятельного иконографического существования, это атрибуты, имена прилагательные. А нимфа – имя существительное, но важно здесь не кто она, а каково ее происхождение. Она – представитель другой эпохи, античный элемент, который проникает в изображение 15 в., на фреску Гирландайо. Для Варбурга появление иного (нового, а скорее хорошо забытого старого) в визуальном поле соотносится с появлением нового в ментальной сфере. Таким образом, подвижные детали и фигура нимфы лежат в основе нового иконографического и иконологического подхода – где значение изображения расшифровывается не с помощью характерного атрибута или устойчивой типологии, а через интерпретацию второстепенных для сюжета деталей и стилистики изображения персонажей, то есть через формальные приемы. Можно сказать, что Варбурга интересует не сама тема «вечной женственности», но ее образ: взвихренные волосы и развевающиеся одежды, за которыми он открывает языческую динамику и первичные чувственные страсти. Связанные с ней эмоции могут описывать различные, вплоть до полярных, ситуации: с одной стороны, дикая страсть менады, убивающей Орфея, с другой – окруженная грациями Венера как образ эротической привлекательности и утонченной красоты. То есть «нимфа» вместе с открытой энергией могла воплощать как угрозу, так и надежду, как действие, так и мечту (ее образ ассоциировался и с vita activa, и с vita contemplativa).
Формула пафоса
Мы привыкли видеть в пафосе отличительную черту поэтического описания, и настроение, его производящее, обычно называем поэтическим, потому что оно исполнено страсти. При более внимательном отношении к делу увидим, однако, что величайшие поэты избегают этого рода лживости и упражняются в ней только поэты второстепенные.
Джон Рёскин [225]Понятие «формула пафоса» (Pathosformel) впервые встречается в работе «Дюрер и итальянская античность» (1905). [226]Варбург сравнивает рисунок Дюрера «Гибель Орфея» 1494 г. и гравюру круга Мантеньи, которая послужила образцом для Дюрера, отмечая, что оба эти произведения из коллекции Гамбургского Кунстхалле заинтересовали его не столько в силу своего высокого художественного качества, но как повод для размышлений о влиянии античности. Это влияние Варбург называет двойным – в античном искусстве художники ищут не только примеры «тихого величия», классического идеализированного покоя, но и образцы патетически усиленной мимики (Vorbilder fur pathetisch gesteigerte Mimik). Далее, на основании сравнения рисунков с образцами античной вазописи подтверждается, что речь идет об иконографии гибели Орфея, в которой утвердилась совершенно определенная поза и жест защищающегося от нападения мужчины, – и этот устойчивый жест Варбург обозначает как «формула пафоса». Этот жест – не просто удачно найденный художниками композиционный мотив, он прочно связан со своим содержанием, вернее, со своим историческим прошлым – с темными страстями дионисийских мистерий. И это античное прошлое оживает не только в изобразительном искусстве Ренессанса: в 1471 г. в Мантуе была поставлена драма Полициано «Орфей» – античные сюжеты и античный пафос оказались востребованы именно в том случае, когда было необходимо изобразить то, что Варбург называл «подвижной жизнью» (или эмоционально насыщенной – bewegtes Leben) – моментов, наполненных эмоциями и страстями.
Итальянские мастера воспроизводят формы античности, а Дюрер использует в качестве образцов работы Мантеньи и Поллайоло, при этом вместе с заимствованной формой переходят и содержательные смыслы: экспрессия отчаяния, страстное напряжение. Сначала Дюрер копирует «Вакханалию» Мантеньи, а затем сцену похищения, вероятно, с утраченного оригинала Поллайоло. И вот здесь происходит очень показательное переименование оригинала. То, что скорее всего изображало легенду о похищении Зевсом Антиопы, в версии Дюрера получает название «Ревность» – ведь для него важен не сюжет, а темпераментный образ, экспрессия как таковая.
Конец ознакомительного фрагмента.
Интервал:
Закладка:


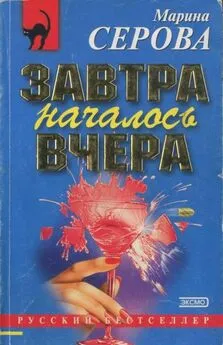
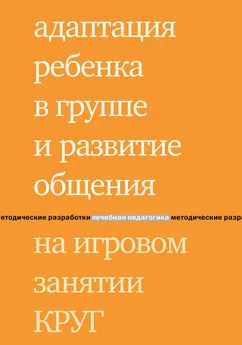
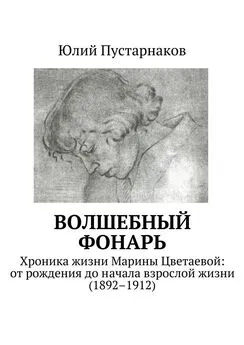
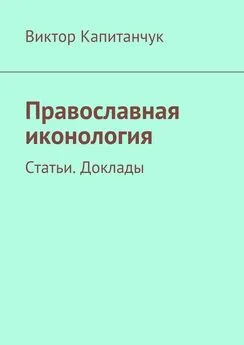
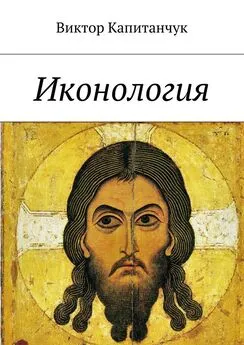
![Богданова Марина(Яутжа) - Кали: Начало [СИ]](/books/1092044/bogdanova-marina-yautzha-kali-nachalo-si.webp)