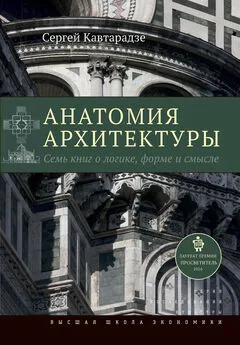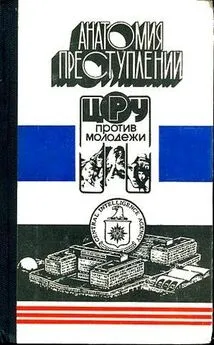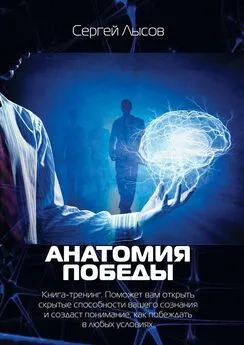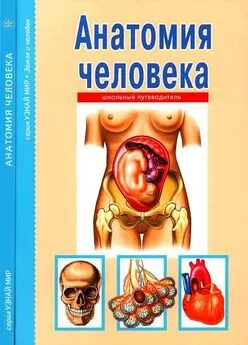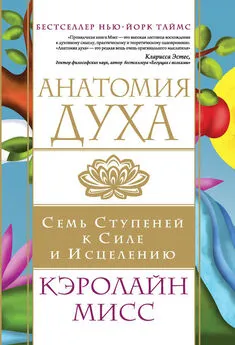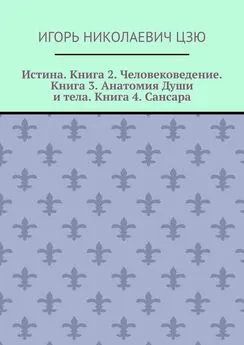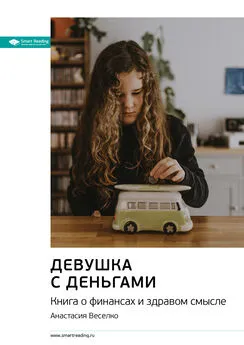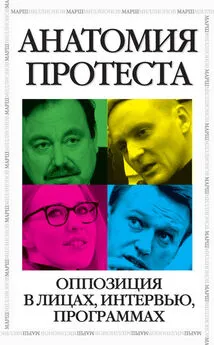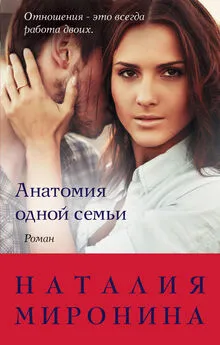Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле
- Название:Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1372-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кавтарадзе - Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся архитектурой и историей искусства.
Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что было дальше? Ордер навсегда утвердился в архитектуре. По крайней мере, на Западе.
Однако необходимо отметить, что это присутствие было двояким. Прежде всего речь идет о буквальном или почти буквальном воспроизведении. Некоторые примеры хорошо известны. Так, все мы знаем, что эпоха Возрождения получила свое название именно потому, что возродила интерес к культурным и философским ценностям Античности, то есть к достижениям Древней Греции и Древнего Рима. Архитекторы, особенно итальянские, оказались в этом движении в первых рядах. Естественно, ведь прекрасные образцы древности были всегда перед ними – когда прямо под ногами (обломки, фрагменты колонн и антаблементов, валявшиеся на земле), а иногда в виде неплохо сохранившихся построек, настолько прочных, что они веками сопротивлялись варварским попыткам разобрать их на исходный строительный мате риал. Понятно, что главной целью ренессансных зодчих стало как можно более точное воспроизведение ордерных композиций в соответствии с заветами древних авторитетов, прежде всего Витрувия. Иначе мы вообще не говорили бы о Ренессансе. Знакомые нам со времен древнегреческих храмов метопы и триглифы, волюты и овы (от лат. ovo – яйцо; название характерного украшения ионических капителей) в эту эпоху во множестве вновь появились как на фасадах реальных зданий, так и на страницах трактатов о зодчестве.

Рис. 1.22. Колизей. 72–80 гг. Рим, Италия [22] Фотография: Сергей Кавтарадзе Слово «Колизей» происходит от латинского colosseus – громадный, колоссальный. Во многих зданиях Древнего Рима ордер из реальной конструкции превращается в декор. Здесь мы видим отличный пример распределения ордеров по вертикали согласно «весовым категориям».
Не стоит, однако, думать, будто предыдущее тысячелетие, уместившееся между Античностью и Возрождением (почему оно и зовется Средневековьем), вообще не знало ордера. Он никуда не исчезал, просто иногда принимал непривычные формы. Уже в ранних христианских храмах, массово строившихся после того, как император Константин Великий объявил исповедовавшуюся в них религию официальной, можно увидеть ряды знакомых нам колонн с базами, каннелюрами и капителями классических форм. Часто это и были настоящие античные колонны, заимствованные последователями Христа из языческих построек и использованные повторно.
И в период зрелого и позднего Средневековья, в том числе в эпоху Готики, казалось бы, принципиально чуждой классическим идеалам (иначе за что она получила свое презрительное варварское имя?), ордер не исчезал из архитектуры бесследно. Готические арки ранних соборов опираются на знакомые коринфские колонны. И даже потом, когда место одной опоры займут пучки и связки колонок с несоразмерно вытянутыми пропорциями, все та же логика структуры (база, фуст, капитель) позволит безошибочно узнавать в их экзальтированных чертах наследие древнегреческих храмов.

Рис. 1.23. Базилика Сан-Витале. 527–548 гг. Равенна, Италия [23] Фотография: Мария Сахно В некотором смысле византийские зодчие неосознанно возвращаются к традициям Древнего Египта. Колонна изображает Древо Жизни, хотя и не теряет связи с античными прототипами.

Рис. 1.24. Фасад базилики Сан Микеле ин Форо. XII век. Лукка, Италия [24] Фотография: Сергей Кавтарадзе Для последователей Витрувия такой фасад – это абсолютный архитектонический кошмар. О днако человеку Средних веков пышность форм и богатство символической нагрузки более важны, чем верность классическим образцам.
Эпоха Возрождения вернула ордеру классические пропорции и сделала его почти обязательным украшением еще на несколько столетий. Правда, барокко, находясь в плену бурных эмоций, искривляло антаблементы и разрывало фронтоны, но общая философия и пропорциональный строй этой системы оставались неизменными. Классицизм же и ампир вообще почти во всем следовали античным прототипам.

Рис. 1.25. Сан-Карло алле Куатро Фонтане. Главный фасад, вид снизу. Архитектор Франческо Борромини. 1638–1677 гг. Рим, Италия [25] Фотография: Сергей Кавтарадзе Барокко. Древние греки решили бы, что архитектор злоупотребил неразбавленным вином.

Рис. 1.26. Колоннада Лувра – восточный фасад королевского дворца. Архитектор Клод Перро. 1667–1670 гг. Париж, Франция [26] Фотография: Светлана Кузенкова После долгих интриг и попытки провести открытый конкурс на лучший проект фасада корпуса, замыкающего двор дворца Лувр с востока, право на воплощение собственного замысла было отдано архитекторусамоучке Клоду Перро, брату знаменитого сказочника. Это классицизм. Тут и добавить нечего.
Тем не менее с течением времени у ордера как у универсального архитектурного инструмента возникли проблемы. Чем дальше, тем больше он воспринимался лишь как украшение, не отражающее реальное устройство здания. К концу XIX века, в эпоху усталости от эклектики, ордерный декор стал многими считаться большой ложью, чем-то, что призвано не столько служить высоким идеалам искусства, сколько обслуживать вкус плохо образованного заказчика.
В начале прошлого века ордер поэтому на время укрылся от глаз, по крайней мере в тех архитектурных течениях, которые принято называть современными. Но даже в этом случае он лишь спрятался, стал невидимым, но не исчез совсем. Казалось бы, что дорического, ионического или коринфского может быть в коробке из стекла и бетона? Однако это лишь внешнее впечатление. Модернизм вовсе не отказался от ордера, он лишь перестал подражать ему внешне. Архитектура XX века вернулась к тому античному постулату, что здание должно правдиво рассказывать о работе собственных конструкций. Просто технологии были уже другими, и соответственно изменился сюжет повествования. С середины XIX века в строительстве все чаще и чаще применялся железобетон – опоры и балки перекрытий нужной конфигурации отливались из смеси песка, щебня и цемента. Главным же было то, что в каждую форму предварительно вставлялась металлическая арматура. Если обычная архитравная балка в стоечно-балочной системе работает на излом, то арматурные прутья в новых конструкциях испытывали свою прочность на разрыв. А порвать стальное «копье» диаметром в несколько сантиметров очень непросто. Соответственно, и высота опор, и, главное, ширина перекрываемых пролетов потенциально увеличивались во множество раз. Перед архитекторами и строителями открывались совершенно невообразимые в прошлом возможности. И все это требовало нового эстетического осмысления.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: