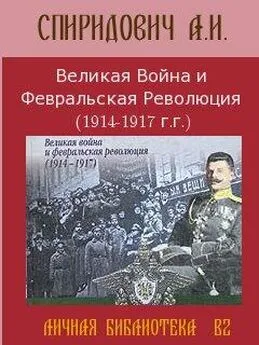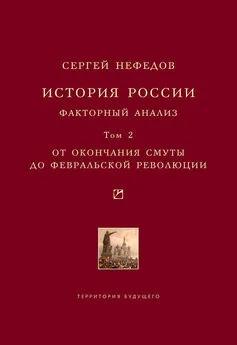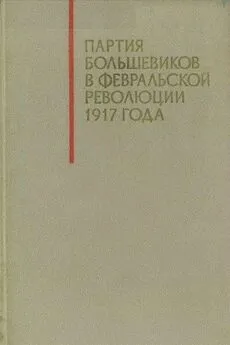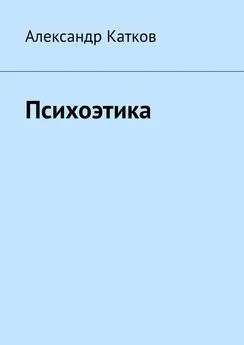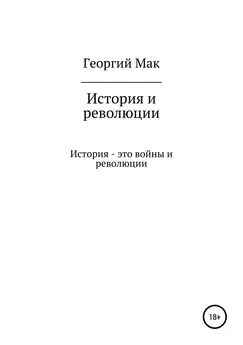Георгий Катков - Февральская революция
- Название:Февральская революция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Катков - Февральская революция краткое содержание
Февральская революция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кризис, созданный недостатком взаимопонимания и координации между полицией и военными властями, достиг апогея во время февральских волнений. Петроградский военный округ был выведен из подчинения генерала Рузского, главнокомандующего Северным фронтом, и передавался в непосредственное ведение военного министра, а в случае чрезвычайного положения — в ведение Совета министров. Эта мера не содействовала улучшению отношений между полицией и военными властями, которые подчинялись вновь назначенному начальнику Петроградского военного округа генералу Хабалову. Кроме того, полицейские силы, подчинявшиеся Протопопову, были сами по себе дезорганизованы. Городская полиция, тайная полиция, жандармский корпус — вот составные части сложной бюрократической машины, находившейся в ведении министра внутренних дел. Городскую полицию только что принял новый начальник — Балк, охранное отделение было в значительной мере развалено интригами, в Которые его втянули в 1916 году и кульминацией которых стало убийство Распутина. По мнению генерала Спиридовича, Протопопов был неспособен управлять ключевыми отделами своего ведомства, и они действовали на свой страх и риск.
§ 8. Изоляция государя и генералитет.
Отдаление верховного правителя от его собственного правительства завершило процесс изоляции, которому в равной мере содействовали упорство царя и систематические усилия оппозиции. Не было буквально никого, кроме жены, с кем бы царь в этот момент мог обсудить политическое положение и свои намерения. После убийства Распутина он не доверял никому, и менее всего - тем нескольким придворным, с которыми имел дело изо дня в день. Такие люди, как дворцовый комендант Воейков или адмирал Нилов, или дежурные адъютанты, были просто знакомыми, с которыми царь мог пойти на прогулку или иногда сыграть в домино. Ни за столом, ни во время прогулок, на которых его сопровождали эти люди, политические вопросы никогда не обсуждались. Их могли затрагивать на официальных аудиенциях лишь те лица, которых вынуждал к тому служебный долг. Обсуждение, таким образом, могло иметь место, но коль скоро мнение царя было высказано, возражать ему становилось бесполезно и даже опасно. Опасно, потому что это могло нарушить доверие в отношениях между монархом и должностным лицом, доверие, в основе которого лежала идея абсолютного повиновения. Бесполезно, потому что, хотя царь вообще довольно часто менял решения, он никогда не делал этого под давлением аргументов, высказанных в ответ на непосредственно перед этим выраженную им волю. Царь, несмотря на свой ум, был нерешителен в суждениях и не доверял своей способности отстоять в споре с ловким собеседником решение, к которому он пришел после длительного обдумывания и взвесив мнения нескольких лиц, которым доверял. В последние недели его царствования число их все уменьшалось, в конце концов исключением осталась только жена, но даже и ее суждения, очевидно, не были для него несомненны. Во всяком случае, настойчиво повторяемая ею претензия быть ближайшей и самой преданной его помощницей говорит о том, что роль, которую она стремилась играть, была принята ее мужем не безоговорочно.
Разумеется, в последний момент делались попытки прорваться сквозь стену молчания, которой окружил себя царь, и объяснить ему необходимость политических перемен. После ухода с должности начальника штаба Верховного, генерал Гурко был принят 13 февраля в Царском Селе. Он впоследствии утверждал, что самым решительным образом высказался за немедленное проведение конституционной реформы. Гурко, вероятно, выдвинул много убедительных доводов, особенно ввиду того, что только что председательствовал на конференции союзников. Ему дали понять, что в его услугах не нуждаются. В дневниковой записи за этот день царь просто жалуется, что Гурко задержал его так долго, что он опоздал на вечерню.34
В известном смысле, обращения, подобные обращению Гурко, были на этой поздней стадии развития событий очевидно бесполезны. Все "за" и "против" относительно немедленной конституционной реформы и образования "правительства доверия" были за последние месяцы представлены и обговорены в многочисленных записках и докладах. Образование "правительства доверия" считалось панацеей, которая излечит все недуги: недостатки снабжения, военную слабость, экономическую и социальную смуту.
Однако, большинству тех, кто предлагал эту меру, — и самому царю, - было ясно, что главная ее цель заключается в том, чтобы заставить его отказаться от неограниченной власти в назначении министров, а надежда на то, что благодаря этой перемене трудное положение в стране изменится к лучшему, обоснована слабо. Близилось критическое лето 1917 года, в перспективе которого виделся решительный, вкупе с союзниками, рывок на фронте, и Николай II полагал, что перемены в правительстве и администрации - которые неизбежно сосредоточат внимание общества на внутриполитических спорах — противоречат здравому смыслу. Либералы же, как кн. Львов, все отчетливее ощущали, что если политическая цель, к которой они стремились с 1905 года, не будет достигнута в условиях войны (благодаря которой в их руках оказывались средства нажима), то их дело будет проиграно и будущие пути России определятся независимо от их идей и стремлений. Они поэтому удвоили усилия и сумели в феврале 1917 года — второй раз за время войны — убедить большинство членов Совета министров, что правительство не сможет успешно вести войну, если в политических уступках будет отказано.
На этот раз, однако, никаких тайных сношений между министрами и думской оппозицией не было. Убеждение, что царь не сможет больше противиться политической реформе, было настолько прочно, что даже в хорошо осведомленных правительственных кругах Петрограда многие верили: когда 14 февраля откроется сессия Думы, царь выступит и вдруг объявит об образовании "правительства доверия", или об образовании правительства, ответственного перед Думой.
Подобно многим людям, которые страдают отсутствием воли, царь, всякий раз, когда ему приходилось принимать решение, испытывал желание сравнить аргументы двух диаметрально противоположных концепций. То же самое произошло и перед его отъездом в Ставку, который последовал 22 февраля. Внимательно выслушивая Гурко и других защитников конституционной реформы, он поручил в то же время министру внутренних дел Маклакову разработать план отмены конституции и даже подготовить соответствующий манифест. Эти метания между взаимоисключающими позициями говорят о том, что у царя никогда не было ясно очерченной политической программы, осуществление которой он считал бы своим долгом и обязанностью. Конечно, был долг самодержца, он налагался обещанием, данным умирающему отцу. Кроме того, в сохранении самодержавия царь видел единственный путь, на котором можно избежать национальной катастрофы, — причем, убеждение это подкреплялось невысокой оценкой честности и способностей лидеров оппозиции, а также мистической верой императрицы, в нерушимой крепости самодержавия видевшей залог будущего порядка, который позволит ее болезненному (и потому несколько отсталому) сыну в сохранности получить корону предков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: