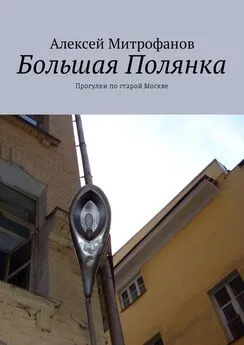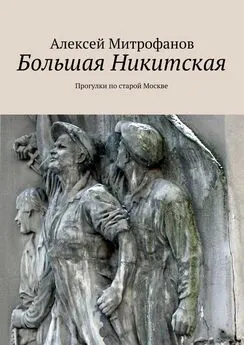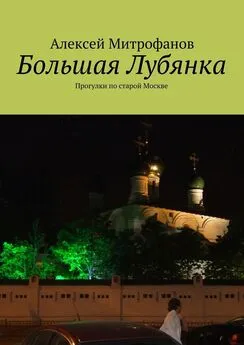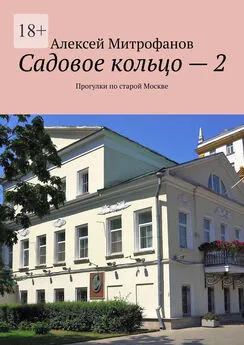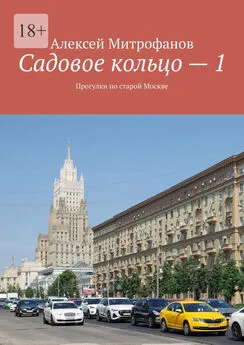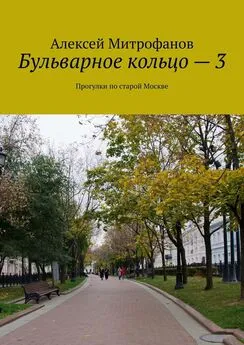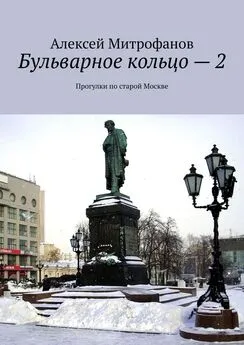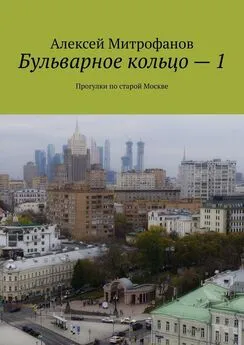Алексей Митрофанов - Большая Полянка. Прогулки по старой Москве
- Название:Большая Полянка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-93136-064-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Большая Полянка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Большая Полянка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
* * *
Правда, были и скептики. Прелюбопытнейшее описание выставки занес в свой дневник обыватель Н. Окунев: «В октябре я три воскресенья подряд ездил на «Всероссийскую сельскохозяйственную выставку»… Территория громадная и, чтобы обойти ее, с безостановочным прохождением по всем павильонам, – мне понадобилось целых три дня, или до 20 часов времени. За вход платил 250 р. (или миллионов), потом 300. Первое впечатление: шепчешь про кого-то: «Черт их возьми, и когда они успели нагородить все это?» Действительно, тут, конечно, много воровали, но работали на совесть. Немало грандиозных и красивых или оригинальных построек. Молодежь в восторге: она, насмотревшись на пятилетний разлом Москвы… и не помня или не существуя во времена бывших выставок, думает, что раньше этого никто и не видывал. И разевая рот от быстроты приготовления тут же на выставке папиросы или от размеров яблока, равного голове годовалого ребенка, будет думать, что, должно быть, правду говорят товарищи, что только советское хозяйство может производить такие чудеса. Но нас, стариков, этим не проведешь: мы еще со времен Крылова слыхали об огурце, «в котором двум усесться можно». И еще в 70-х годах знали, что на Парижской выставке показывали серебряного лебедя, который плавал как живой и хватал под водой серебряную же рыбку, а затем поднимал голову и проглатывал ее (см. Марка Твена).
Были, например, на выставке поражающих размеров дубовые или сосновые кряжи, но как их ставить в заслугу советской действительности, когда жития этим деревам было свыше 200 лет и когда мы знаем, что в Америке или где-нибудь в Австралии есть древесные пни, на которых устанавливается экипаж, запряженный двумя или тремя лошадьми. Нас гораздо более интересовали экспонаты, сделанные в революционные годы. И тут мы чаще всего находили «передергивания». Вот, например, чугунные статуэтки уральских горных заводов. Громадный успех, плакаты гласят: «Сделано в 1922 году». Смотрю: все эти тройки, собаки, венеры, борцы, олени знакомы мне не мене сорока лет, однако тогда на их пьедесталах не было никаких надписей, а теперь под фигурами двух схватившихся гладиаторов мы видим рельефные, литые слова: «За коммунизм». Какие же могут быть сомнения у «доброго русского народа», что эти фигуры на Урале в царские времена не могли производиться. Есть великолепные модели фабрик, мельниц, элеваторов, пароходов – названия их: «Имени Ленина», «Имени Карла Маркса» или «Чичерин», но посмотришь повнимательнее и увидишь: где-нибудь сбоку помечено самим автором – «исполнил инженер Замурлыцкий в 1909 г.»
И много-много чудесного, интересного и поучительного на выставке, но все это мы видели или на бывших «всероссийских» выставках, или… в музеях, а то так и – на старой Нижегородской-Макарьевской ярмарке. Что же касается мехов, кож, кружев, парчей или других богатых вещей, то мы еще не забыли оконные выставки Кузнецкого моста времен прошлого десятилетия. Но каждая выставка должна иметь какой-нибудь «гвоздь». И тут он тоже есть: это – громадный портрет Ленина, сделанный из разноцветных садовых растений. Произведение, действительно, художественное и делающее честь какому-то итальянцу, чье имя значится внизу портрета (если не ошибаюсь, Бенжамини).
Лично я полюбовался плакатами Никулина, графическими воспроизведениями некоторых рисунков Кустодиева, громадными деревянными статуями Коненкова и искусством иконописцев из Палеха (так называемых владимирских богомазов), которые, когда их товар не в спросе, стали на деревянных изделиях кустарного набора (на шкатулках, блюдах, столиках и т.п.) изображать иллюстрации к сказкам или песням, и, таким образом, бывшая мученица великолепно сходит за красную девицу, пленившую целителя Пантелеймона, а ныне – лихача Кудрявича».
Впрочем, и импортный товар не мил был въедливому посетителю: «Был на выставке и иностранный отдел, ничем особенным нас не удививший (послали к нам – «на тебе, Боже, что нам не гоже»). Зайдя там в уборную, я долго размышлял, кто к кому обращается с такой отчетливой просьбой: «С ногами не лазить». Иностранцы к нашему брату русскому-невеже; иль мы к ним, просвещенным мореплавателям? В таких же учреждениях на территории русских экспонатов воспитательные плакаты смиренно просят посетителей соблюдать там «чистоту и вежливость».
Из вежливости к выставке, в общем довольно симпатичной, я больше ничего про нее не скажу. Только разве еще две-три строчки. На экспонатах туркестанского плодоводства очень интересные названия: на одном яблоке «Император Александр», а на тыкве «Тайный советник». Подивишься, как могли сохранить такие наименования. Если тоже из вежливости, то к кому же, собственно?»
Тем не менее, выставка стала событием первейшей важно-сти. Газеты радостно публиковали письма простых жителей страны. Письма были приблизительно такого плана: «Наши деды жили в кабале, не видели света, мы же этого не хотим. Пусть поедет, посмотрит наш человек и по приезде нам расскажет».
А по окончании выставки те же газеты подводили итоги: «Тысячи экскурсантов-крестьян побывали в те дни в Москве. Как желанных гостей встречали их представители выставки на вокзалах, распределяли по общежитиям, заботились о питании, отдыхе, развлечениях. Дни проходили в беспрерывной смене впечатлений, спорах, обмене опытом. Украинцы, белорусы, якуты, татары, хивинцы, туркмены, грузины, азербайджанцы шли на заводы, фабрики, встречались с рабочими, слушали лекции, посещали театры».
Словом, что русскому здорово, то немцу смерть. Что у искушенного москвича вызывало насмешку, то жителя среднеазиатского кишлака приводило в восторг неописуемый.
Кстати, эта выставка была мероприятием настолько важным, что ее посетил больной Ленин. Прямо отсюда он поехал в Горки (ныне – Горки Ленинские) и более в Москву не возвращался. Умер.
* * *
Вскоре весь этот карнавал разъехался по своим маленьким родинам, а в 1928 году на праздной территории открыли парк. И поэт Мандельштам посвятил ему стихотворение:
Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На реке Москве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.
Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.
Юрий Карлович Олеша назначал тут встречи иностранцам. Ему нравилась здешняя атмосфера: «Мы сидим на скамье в парке культуры и отдыха: профессор Колумбийского университета, переводчик и я.
Парк прозрачен. Деревянные части его окрашены в синее. Стоит высокая башня. Ее высота условна. Здесь высота сооружений делится на площадь огромной территории. Парк нежно реален. Некоторые детали его видишь сквозь ветки. Между собой и далекими купами Нескучного сада видишь двух летающих бабочек».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: