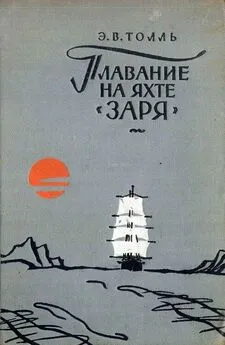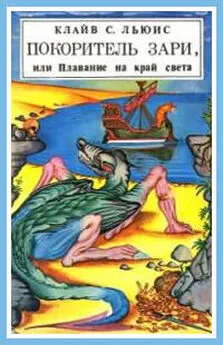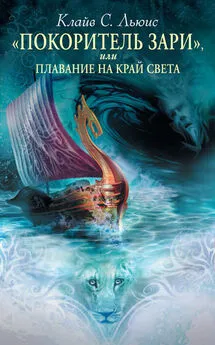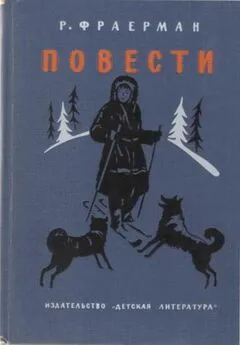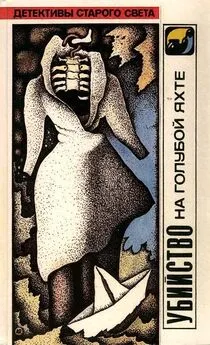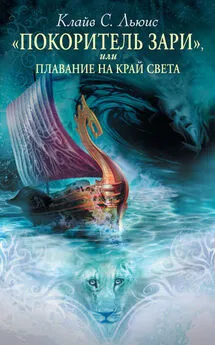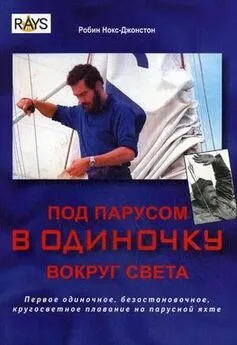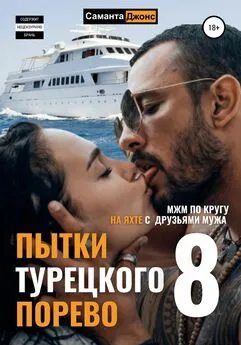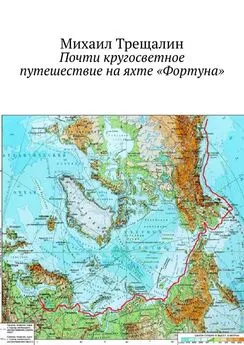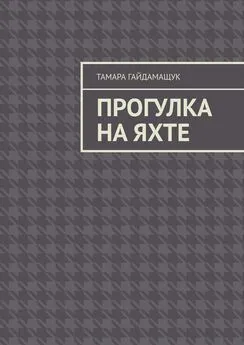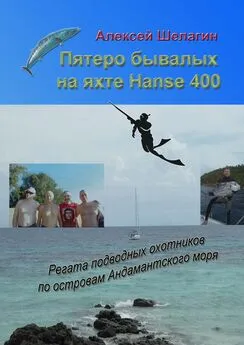Эдуард Толль - Плавание на яхте Заря
- Название:Плавание на яхте Заря
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуард Толль - Плавание на яхте Заря краткое содержание
В дневнике он говорит о своих спутниках, делится чувствами и мыслями, описывает наиболее интересные события из жизни двухлетней экспедиции и рассказывает о громадной научной работе, проделанной ею.
Художник Б. В. ШВАРЦ
Плавание на яхте Заря - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
13 февраля тронулись в путь в 7 часов утра. Было 40,2° мороза при северо-восточном ветре 4 м/сек. Отсюда я взял пеленги на Святой Нос, видимый со стороны Ляховского острова. Чай-поварня лежит у основания Хаптагай-тас [120] Чай-поварня — хижина на мысе Святой Нос; упоминающиеся далее «горы» — возвышенности на этом мысе.— Г. Я.
, самой восточной из четырех гор. Эта гора своими плоскими очертаниями отличается от Сюрах-тас и его маленького соседа, имеющего форму усеченного конуса.
Эти 70 км мы сделали за 10 часов, включая полтора часа, затраченные на остановки, в том числе на получасовую остановку, чтобы наново покрыть слоем льда санные полозья.
Я был поражен ловкостью и проворством обоих якутов, с которыми они разводили огонь и восстанавливали ледяные полозья. Полагаю, что из них получились бы отличные матросы. Научившись пользоваться компасом, они прекрасно ориентировались на необозримых снежных пространствах.
Чай-поварня у подножия Святого Носа представляет собою рубленый дом со сложенным посреди помещения камельком и с отверстием в крыше для выхода дыма. Однако дым, пренебрегая этим отверстием, стелется густым слоем по помещению, оспаривая свое право у пара из кипящего чайника и котла с супом. От этого терпеть больше всего пришлось нам, так как дым ест глаза и щиплет горло. В этом адовом пару и дыму едва видно огромное, ярко пылающее пламя, которое не в состоянии обогреть помещение. Таким образом, кров этой поварни никак нельзя было признать гостеприимным. Собственно говоря, удобство заключалось только в том, что не надо было собирать и грузить палатку, хотя рабочее время, не затраченное на разбивку палатки, ушло на выгребание снега, наполнявшего поварню до высоты человеческого роста. Рядом с Чай-поварней лежал штабель довольно больших мамонтовых бивней, собранных прошлым летом на Большом Ляховском острове; здесь было около 200 кг.
На другое утро, 14 февраля, в 8 часов мы отправились дальше. Дорога проходйла через массив Святого Носа мимо западного склона горы Хаптагай-тах по удобному горному проходу. От Чай-поварни дорога пролегала на протяжении 1 км по плоской прибрежной тундре до устья долины, повторяя все ее изгибы и поднимаясь вверх до гребня горного кряжа. Затем начался трудный подъем и мы все трое впряглись в нарту, чтобы облегчить собакам работу, а Воллосович шел впереди с рыбой в руке, что поощряло их к большему рвению. Снег был очень глубокий, мы шли обливаясь потом, долина была защищена от ветра, и температура в 40° мороза не ощущалась. У горного прохода нас настиг восточно-северо-восточный ветер силой около 12 м/сек. Пока тащили сани, мы сняли с себя все шубы, здесь же в одно мгновение я почувствовал, что начинаю замерзать. На голову быстро натянули «кухлянки», которые защитили лицо от ледяного ветра. При спуске за перевалом не требовалось физического напряжения, а только ловкость и сноровка; лыжная палка была воткнута между копыльями саней, тем не менее сани катились с неимоверной быстротой по южному склону горы между выступавшими из-под снега скалами. Собаки мчались быстрым бегом. Благодаря моему любимцу, лучшему вожаку упряжки Туркану, мы не разбились, только один раз пронеслись со скрежетом через острые края скрытых под снегом камней. Через 10 км достигли обветшалых остатков «Горохова стана» в Эбеляхской бухте. Но и здесь, в низине, бушевала буря. Чтобы не пропустить в темноте «Малую поварню», было решено переночевать в урасе, которая находилась в 10 км в Портнягином стане, между тем к а к до Айджергайдаха оставалось еще 40 км. На этот раз добрались до «крова» очень ран о— в 1 час 15 минут дня. Пока якуты приводили урасу в жилой вид и выгребали из нее снег, мы шагали взад и вперед, чтобы согреться, повернувшись спиной к ветру. На расстоянии километра от урасы видели трех оленей. Это были не первые олени, встреченные в тот день. Очевидно, животные проводят здесь зиму.
После того как мы обогрелись у пламени костра, нами было сделано открытие, обрадовавшее якутов: в углу урасы нашлась замороженная рыба, из нее они приготовили свое любимое блюдо, которого были давно лишены. В возмещение за рыбу ее неведомому хозяину был повешен бумажный мешочек с сухарями и оставлена банка консервов из кислой капусты. Во время чаепития Николай неожиданно вскрикнул, уронив из рук свою чайную чашку. Причиной его страшного испуга был невинный лемминг (Myodes olensis), приблизившийся к нему, чтобы тоже погреться у очага. Такой пугливости я никак не ожидал от нашего бывалого путешественника, и мы над ним долго подшучивали.
На следующий день, 15 февраля, нам оставалось проехать до конечной цели — Айджергайдаха 35 км. В этом месте в 1885 г. Бунге велел соорудить поварню. Отсюда мы начали свое первое путешествие на Новосибирские острова и отсюда же выступила моя вторая экспедиция в 1893 г. Следующий населенный пункт — Муксуновка — лежит на 90 км южнее.
На берегу Эбеляхской бухты и в тундре южнее Святого Носа во множестве расставлены капканы для песцов, которые периодически проверяются их хозяевами. Вид этих ловушек вызывал представление о близости человеческого жилья!
За пять часов мы пересекли Эбеляхскую бухту протяжением 35 км. На дороге лежал замерзший труп молодой оленьей самки. На ее теле не было следов волчьего нападения или ран, нанесенных рукой человека. Животное было сильно истощено, и якуты высказали предположение, Что оно пало от голода. Тушу разрубили топором и погрузили на сани для корма собакам.
До устья речки Айджергайдах ехали по гладкому пресному льду. В июне 1893 г. я восторгался здесь восхитительной картиной полета стаек всевозможных представителей пернатого царства. Налево от устья у самого берега высились низкие земляные холмы «айджергай» [121] Аджергай — по-якутски — имеющий кудрявый, взъерошенный вид.— Я. В.
, благодаря которым эта местность получила свое название. Промышленники отличают эти низкие конусы, образовавшиеся путем эрозии, от высоких конусов четвертичных отложений — байджарахов, в которых обычно встречаются части скелета и бивни мамонта.
Через несколько минут посреди тундры, усеянной плавником, предстала перед глазами хорошо знакомая поварня. Около поварни было заметно движение, а перед амбаром лежали впряженные в нарты олени. Сердце забилось до Острой боли! Быть может, это прибыла почта?
Пока Василий Чикачев привязывал собак, чтобы они не набросились и не разорвали оленей, я поспешил навстречу людям. На мой первый вопрос — «Нет ли почты?», последовал ответ — «Почта сох!», т. е. почты нет.
Затем начались приветствия и рукопожатия. Здесь были два якута, Егорчан и Алексей, которые только что доставили из Казачьего корм для собак и уложили 1500 штук сушеной рыбы в амбар. Восемь проворных рук начали откапывать снег от входа в поварню, и вскоре в камельке ярким пламенем запылали дрова. Когда наполненный льдом чайник был повешен над огнем и задымились трубки, наступил момент ознакомиться с устной почтой, прибывшей вместе с якутами. Егорчан объявил, согласно установленным правилам приличия: «сох, тохто сох; юче гой!», что означает: «ничего, ничего нового. Все хорошо!» Такого рода беседа продолжалась бы и дальше, пока кипел чайник и пока после четвертой чашки окоченевшие на морозе языки не стали бы более гибкими, однако мы, европейцы, выросшие вне строгих местных обычаев, сломили преграды этикета. Начались перекрестные вопросы, на которые должен был отвечать Егорчан. Прежде всего было сообщено, что все участники вспомогательной экспедиции благополучно прибыли в ноябре месяце в Казачье и что все знакомые и родные живы. Затем последовало сообщение, что у Николая родился первенец, который здоров, как и его мать. Радость была велика. Разговор коснулся условий жизни в Казачьем: какова рыбная ловля, много ли песцов, задирает ли волк оленей? По словам прибывших, прошлое лето отличалось богатым уловом рыбы, но рыба была очень сухая, нежирная. А на Индигирке была голодовка вследствие плохого улова. Песцов попадало в капканы мало, а волков было больше, чем хотелось бы. Они причинили много вреда в соседней Муксуновке. Стоимость кирпичного чая повысилась, а песец и мамонтовая кость, напротив, оплачивались ниже, чем прежде. Отвечая на вопрос, было ли это следствием войны с Китаем или другой, более крупной войны, Егорчан проявил осведомленность и в области политики, сообщив, что война с Китаем закончена, заключен мир. В остальном на свете все благополучно, сказал он.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: