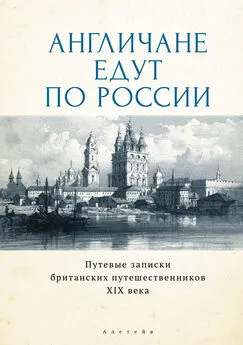И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Название:Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-295-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И Кучумов - Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века краткое содержание
Выдающийся математик и физик Уильям Споттисвуд (1825–1883) в 1856 г. приобрел в Казани диковинное для англичанина транспортное средство – тарантас и проехал на нем по Европейской России от Москвы до Астрахани, побывал в городах и селах, заглянул в буддийский монастырь. Несмотря на то что незадолго до этого закончилась Крымская война, в которой родина путешественника противостояла нашей стране, англичанина принимали с исключительным радушием и во всем ему помогали.
Известный эколог Джон Кромби Браун (1808–1895) несколько лет провел в России. Однажды друзья пригласили его отправиться на Урал для изучения местных лесов и горных заводов, но он предпочел совершить туда так называемое «воображаемое путешествие» и написал об этом увлекательную книгу.
Инженер и металлург Джеймс Картмелл Ридли (1844–1914) вместе с участниками Международного геологического конгресса летом 1897 г. посетил Уфимскую и Пермскую губернии и потом опубликовал записки, в которых увлекательно описал быт и нравы местного населения.
Книга предназначена для историков, этнографов, географов и краеведов.
Англичане едут по России. Путевые записки британских путешественников XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если бы хозяевами этих великолепных рудников и угодий были англичане, они сразу пустили бы здесь конки для перевозки руды и древесины, особенно с отдаленных мест, а это снизило бы себестоимость сырья. У большинства нынешних уральских заводчиков на это нет средств, а государство им не помогает, поскольку они у него в большом долгу. Английские капиталисты давно бы приобрели эти предприятия, но для покупки в России даже небольшого участка земли требуется множество согласований».
Таким образом, состояние горных заводов Урала очень печальное. Я не думаю, что мой информатор что-то преувеличил, поскольку это подтверждается и моими данными. В первую очередь, нужно ограничить хищническую вырубку лесов – их уже мало, хотя руды пока в избытке. Производство стало нерентабельным, но во многом, если не целиком, по причине того, что одни заводчики охладели к нему, а другие попусту проматывают получаемую прибыль. Если леса восстановятся, то заводы смогут возродиться и даже приносить доход. В противном случае придется искать новый источник топлива.
Мой информатор писал: «Единственными заводами, которые вроде бы приносят барыш, являются Верхне-Исетский, Билимбаевский и Кыштымский, принадлежащие, соответственно, Стенбоку, Строганову и Дружинину. Когда двенадцать лет назад я посещал Нижнетагильский завод Демидова, то дров и древесного угля там уже не хватало, поэтому стоили они дорого. Заводчики надеются, что по новой горнозаводской железной дороге [610]они станут получать уголь из Пермской губернии, но для предприятий Демидова и Строгановых, мимо которых она проходит, это еще вилами на воде писано, ведь по горной местности уголь от поездов можно доставлять к заводам только на телегах, грузоподъемность которых не превышает двадцать пять пудов. Не о такой железной дороге мечтали купцы и жители Урала и Сибири, надеявшиеся с помощью нее получить доступ к двум великим транспортным артериям России – Каме и Тоболу, что могло бы увеличить сибирский товарооборот. Но даже эта магистраль сегодня убыточна, ибо за год через Уральские горы она перевозит всего тысяч триста пассажиров и примерно восемь миллионов пудов груза [611]».
Нерентабельность горного производства в этих местах во многом объясняется нехваткой древесины, необходимой для плавки и в качестве топлива при отсутствии плотин. О том, какие силовые установки здесь используются, мой информатор писал: «Замечу, что во время моего пребывания в этой глуши строительство предприятий, использующих паровые машины, было строжайше запрещено законом в целях сохранения казенных лесов. Помещики тоже не имеют права вырубать и продавать лес в своих имениях, а могут употреблять его только в качестве строительного материала, для отопления и литейного производства. У заводчан имеются свои лесные участки, за использованием которых следит община.
Под Екатеринбургом имелся крупный стеарино-мыловаренный завод [612], стоимость строительства которого я не решаюсь назвать, но, скорее всего, она составляла где-то восемь миллионов рублей. Недавно он закрылся по причине отсутствия топлива, добыть которое уже было нельзя даже за взятки, и ушел с молотка менее чем за десятую часть вложенных в него средств.
В России бюрократизм везде! Однажды меня пригласили осмотреть паровой котел на одном из предприятий Екатеринбурга. Увидев, что около машины лежит полно дров и немножечко торфа, я спросил у хозяев:
– Для чего здесь торф, ведь Вы же его не используете?
– Используем, но только на словах. Он здесь на случай приезда ревизора. Мы вынуждены ежегодно тратить четыре тысячи рублей ассигнациями, чтобы инспекторы не спрашивали, почему мы в нарушение закона вместо торфа топим котел дровами.
– Но почему вы не выпишите из Англии машину для заготовки торфа?
– Потому что нам не дают соответствующего разрешения: власти говорят, что если мы ее запустим, то они не смогут вести учет добываемого торфа.
В России для всего нужна бумага. Она позволяет начальству ловко превращать черное в белое, ведь, как известно, "не лжет только тот, кто молчит". Но беспросветный обман царит и на самом низу. Русские говорят: "С волками жить – по-волчьи выть". Заводчик и рад бы не давать взятки, но боится, что его бизнес попросту прикроют.
Чтобы получить разрешение на заготовку древесины, владелец рассматриваемого мною предприятия ездил в Санкт-Петербург, потратил там много времени и денег, но в итоге добился права заготавливать не более трехсот кубических саженей дров в год для каждого своего завода и использовать энергию только воды, а не пара. Однако и это он получил лишь благодаря содействию императрицы, поскольку являлся чем-то вроде ее духовника.
Я поподробнее расскажу об этом человеке, хотя это непосредственно не относится к моему повествованию. О моем герое можно написать целую книгу, и, полагаю, что Вы согласитесь с этим. Его дед происходил из ростовских крепостных. Выкупив себя, он заделался купцом и оставил детям не слишком большое наследство – каких-то девять миллионов рублей. У меня есть его дагерротип, сделанный, когда ему было девяносто лет. Его внук сообщил мне, что одно время у них в хозяйстве работали до пятидесяти тысяч человек, и, согласно, бухгалтерским книгам, состояние их семьи оценивалось в 135 млн руб. Я думаю, что это правда. Семья ежегодно продавала 430 тыс. пудов сала (сколько миллионов овец для этого забивали!), пожертвовала на строительство церквей, школ и богоугодных заведений 350 тыс. руб., потеряла 850 тыс. руб., выданных разорившимся кредиторам, но при этом никогда не обращалась в суды. Ее неимоверно обманывали управители, комиссионеры и сотрудники, но семья всех прощала. Племянник моего героя спустил в казино несколько миллионов своего дяди, но, когда в итоге от последнего ушла жена, он не проклял ее. Со слезами на глазах он заявил мне: "Если я христианин, то должен во всем подражать Господу и учителю моему, который воскликнул на кресте – Отец, прости их, ибо они не ведают, что творят [613]". Пусть не мы, а Бог решает, каким христианином был этот человек!
А теперь о конце этого воистину добродетельного человека. В 1872 г., возвращаясь домой, я встретил его на почтовой станции в Пермской губернии. Его дорогой и единственный брат был при смерти, поэтому он ехал в Ростов, чтобы тоже там умереть. Один брат ушел в иной мир, а другому предстояло похоронить его тело в семейном склепе, откуда тот отправится на небеса, где нет коварных компаньонов и ворья».
Бывшие крепостные, ставшие купцами, склонны к мошенничеству, благочестивы, богаты, владеют многочисленными производствами и ведут обширную торговлю. Я не стану пересказывать то, что не раз слышал в России лет сорок-сорок пять назад, поскольку сейчас уже не помню ни своих информаторов, ни обстоятельств, при которых об этом узнал. В своей книге я пользуюсь только сведениями, полученными от моего друга. Учитывая упомянутые выше безобразия, кризис металлургии на Урале был неизбежен, но его истиной причиной является не дефицит топлива, а коррупция.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
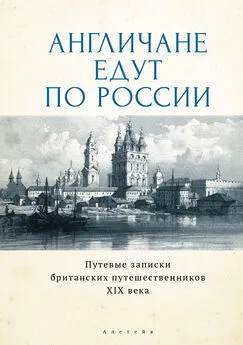

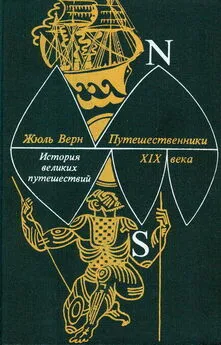

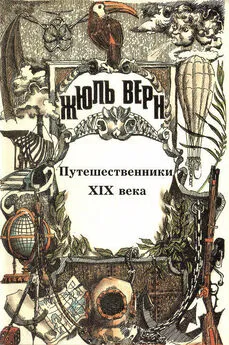


![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)