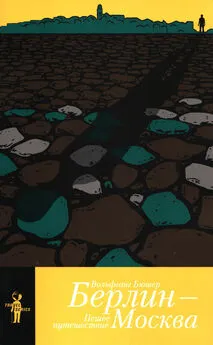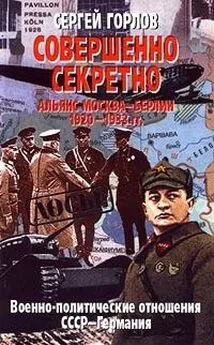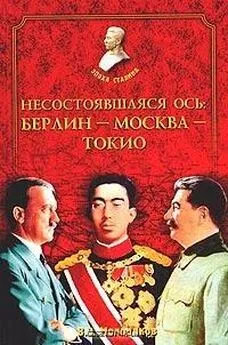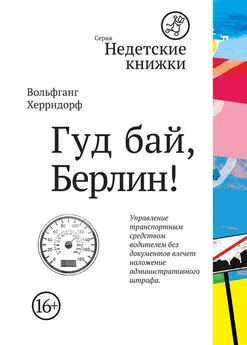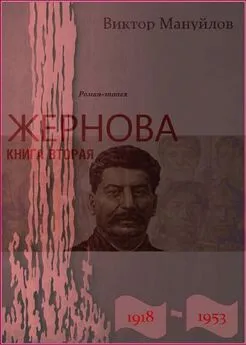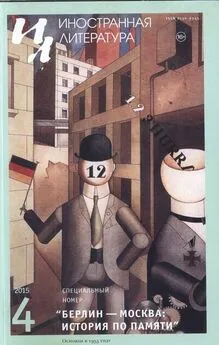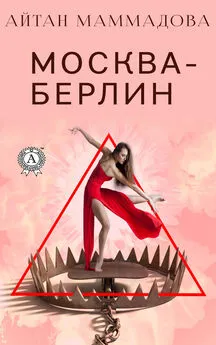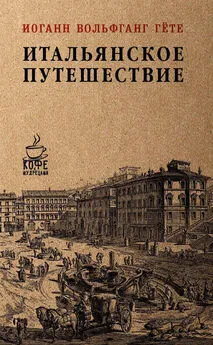Вольфганг Бюшер - Берлин – Москва. Пешее путешествие
- Название:Берлин – Москва. Пешее путешествие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6
- Год:2007
- Город:М.
- ISBN:978-5-98797-010-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфганг Бюшер - Берлин – Москва. Пешее путешествие краткое содержание
Книга «Берлин – Москва» (2003) немецкого журналиста и писателя Вольфганга Бюшера рассказывает об особого рода «путешествии на Восток», о пешем восьмидесятидвухдневном пути к пониманию себя и других на переходе от Берлина до Москвы.
Берлин – Москва. Пешее путешествие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Мы добыли себе оружие на одном немецком посту у станции Новоельня.
Я спросил, что произошло с часовым.
– Никто добровольно не отдает свое оружие.
Для немцев он был беглым военнопленным. Для белорусов – восточником. Для Советской власти – почти предателем. Он работал на немцев два года – ясно, что по принуждению, но в детали тогда никто не вдавался. К таким, как он, у советских замполитов не было снисхождения. Оказаться в плену – уже было предательством, а дома предателя не ожидает ничего хорошего, тем более, если ему удалось выжить во вражеском лагере, где его к тому же неплохо кормили. Но ведь он не дожидался освобождения сложа руки. Он не был предателем. Рискуя жизнью, он за сорок ночей пешком дошел из Германии почти до самого Минска. Он не был глуп. Он понимал, что его плен – результат тиранической политики Сталина, направленной на уничтожение офицерской элиты, но такие мысли лучше было держать при себе, делу это не помогало. По мнению отца народов Сталина, пленному необходимо было исправить свою ошибку, и он ее исправил, а для того, чтобы окончательно загладить свою вину, ушел в леса, как требовал от него замполит. Его реабилитировали.
Я спросил о том, что с ним было у партизан, и он охотно рассказал. Его отряд был самым быстрым и боеспособным в округе. Изредка здесь появлялись другие группы, но действовали под их началом. Имея в своих рядах не более двухсот человек, отряд контролировал всю железную дорогу между Новогрудком и Неманом до того момента в июне 44-го, когда они ее полностью разрушили.
– Наша война была рельсовой, – сказал он, – приказ Москвы.
Он объяснил, как это происходило. Взрывать пути несложно. Гораздо легче, чем прокладывать. Он был командиром своего взвода. Когда наступала ночь, он раздавал всем по мине – кусок динамита размером с лимон; он сам получал динамит от курьеров с советской стороны фронта. Его взвод шел к железной дороге, там он расставлял своих людей цепью на трехкилометровом участке. Все залегали и с напряжением всматривались в небо. Это было действительно просто: воткнуть запал в динамит, присоединить фитиль, горевший три минуты. У каждого в руке была сигарета. Первый сигнал ракеты – все закуривают. Второй – все бегут к путям и закладывают мину между рельсами. Третий – поджигают фитиль от сигареты и убегают. Три минуты – и три километра железнодорожной линии выведены из строя.
Я спросил, приходилось ли ему вступать в бой.
– Боев было много. Немцы знали, где находится мой отряд и его численность. С ними было все ясно: это была война против немцев. Но приходилось сражаться и с поляками. Были польские соединения, сражавшиеся против немцев, но здесь, на Немане, поляки вступили в бой с партизанами. Мы были вынуждены их ликвидировать. Они были уничтожены.
– В одной деревне партизаны убили немца, за это немцы уничтожили всю деревню. Такое часто происходило. Партизаны поступали так же?
– Конечно.
– Вы с этим сталкивались?
– В одной деревне жила девушка, очень хорошая девушка. Из хорошей семьи, очень образованной. И дом, и все свое хозяйство они содержали в полном порядке. Я удивился, что такая семья живет в отсталой деревне. Она была очень хорошая девушка.
После паузы он добавил:
– Ее убили.
– Немцы.
Он отрицательно покачал головой.
– Партизаны?
Он кивнул. Партизаны узнали, что ее отец часто ездит в Новоельню и доносит на них немцам. После этого всю семью убили.
Я спросил, как звали девушку.
– Валентина.
Я спросил, любил ли он ее.
– Да.
Я спросил, сделал ли это их отряд.
– Да.
– Вы участвовали в этом?
– Нет.
Мы перешли к разговору о послевоенном времени. Он пользовался тогда всеобщим уважением, был героем.
– После войны мы были силой.
И после короткой задумчивой паузы:
– Я был силой.
Вместе с замполитом они вершили судьбу города. Они заботились о снабжении хлебом. Обеспечивали всех продовольствием. Жизнь в Новогрудке налаживалась гораздо быстрее, чем в его родном Смоленске, поэтому он перевез сюда свою изголодавшуюся семью.
– Мы не были богаты, но жилось нам неплохо.
Последние слова он произнес с гордостью. Это была спокойная, лишенная хвастовства гордость ветерана, твердо уверенного в том, что все в своей жизни он сделал правильно и выстоял, когда другие сломались. Чистого перед своей совестью и передающего свой эпос новому поколению. На этом его история подошла к концу.
В наступившем молчании продолжали звучать два слова. Арес и Валентина. Любовь и война. Города Арес не существует. Арес – это амулет. Им закрывают мрачную страницу своих воспоминаний, и через некоторое время человек действительно забывает, где был. Так объяснила мне Тамара, заведующая музеем.
– У всех, вернувшихся из немецкого плена, есть свой Арес. Никто из них не может вспомнить, где был.
Нет места на карте – значит нет плена, а значит нет и предательства. Я понял это, а также то, что ему обязательно было нужно поговорить с каким-нибудь немцем о своем друге, немецком поваре, о котором не должны были узнать ни гестапо, ни тем более замполит. Но зачем Валентина, зачем он о ней рассказал? За Арес было заплачено, за Валентину – нет. Он был уважаемый человек, советский герой. Нет, он не предал Родину, он много раз рисковал своей жизнью, чтобы загладить несуществующую вину. Но свою любовь он предал, когда партизанский закон потребовал принести ее в жертву, и Родина отблагодарила его за это. Возможно, еще полчаса назад никто другой не знал о тайной могиле, скрытой не под березами, а в его сердце. Он поднялся, я тоже. Мы пожали друг другу руки, и он вышел в сияющий летний день.
Пыль дней
На рассвете я покинул Новогрудок и спустился в пекло равнины, с каждым днем становившееся все невыносимее. Говорили, что это лето было самым жарким за сто лет, но пока солнце еще невысоко поднялось над горизонтом и деревья по дороге на Кареличи укрывали меня длинными тенями. В этот ранний час многие уже были в пути, мужчины и женщины двигались мне навстречу, будто в праздник, они шли пешком или ехали на небольших телегах с резиновыми шинами, на которых перевозили все, что угодно. Сено. Молоко. Людей. Я был не отличим от других, только направление моего движения – от города на горе вниз, к Минску, – было обратным. Я шел легко.
Когда закончилась аллея и началась жара, я надел панаму. Это был мой единственный предмет роскоши. Все прочее не должно было обращать на себя внимание. Без панамы мимо шел просто no name, человек без имени, в уже сильно застиранных военных брюках, с грязным рюкзаком и коротко стриженной головой. Вероятно, он несет домой картошку со своей дачи, крольчатину или копченую рыбу с водкой. Такой же русский, как и многие, попадавшиеся мне навстречу. Я сам этого хотел: не привлекать внимания, стать невидимым. Раствориться в самой глубине востока, на самом его дне. Быть здесь и в то же время отсутствовать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: