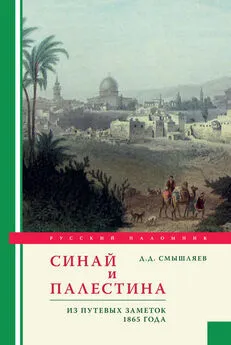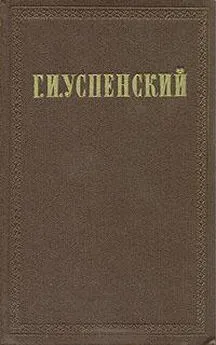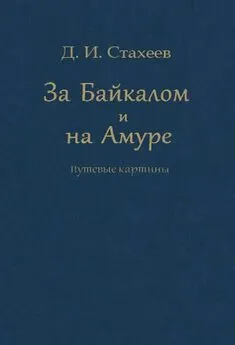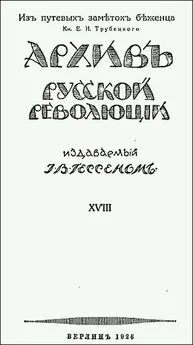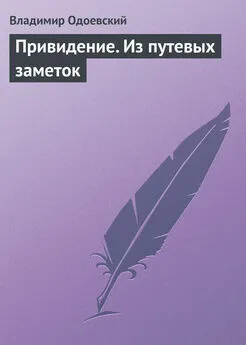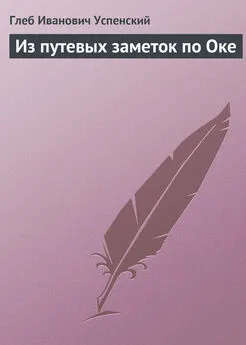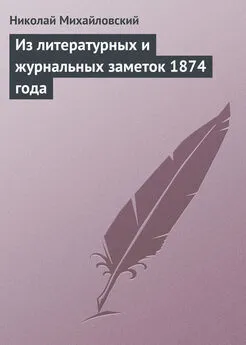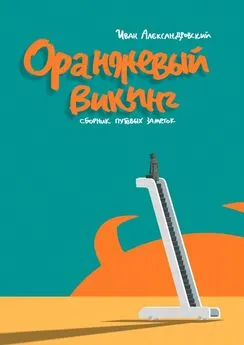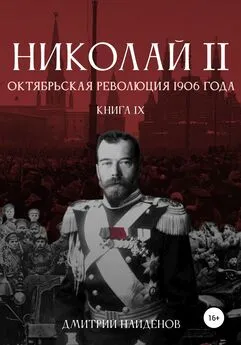Дмитрий Смышляев - Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года
- Название:Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-85759-467-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Смышляев - Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года краткое содержание
Предлагаемая вниманию читателей книга Д. Д. Смышляева «Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года» принадлежит перу умного и наблюдательного путешественника. Написанная живым и выразительным языком, она и сегодня сохраняет свое значение и обаяние для людей, интересующихся судьбами Святой Земли и русского православного паломничества. Текст книги печатается по первому и единственному ее изданию (Пермь, 1877) и снабжен необходимым комментарием и биографической статьей об авторе.
Синай и Палестина. Из путевых заметок 1865 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На другое утро я посетил знаменитую самаритянскую синагогу. Она представляет совершенно пустую комнату, в которой могут поместиться до ста человек. Несколько лампад из цветного стекла подвешены к потолку. Налево от двери находится ниша, задернутая зеленой завесой. Здесь хранится знаменитое Пятикнижие – гордость и святыня самаритян. Оно представляет длинный свиток, навернутый с двух концов на серебряные палки. По словам самаритян, этот свиток писан Ависайей, сыном Финеесовым (1 Пар. 6, 4) [78], и потому существованию его надобно считать около трех тысяч пятиста лет. Конечно, это уверение, не основанное ни на каком историческом документе, не может быть принимаемо серьезно, но, тем не менее, если не самая рукопись, то оригинал, с которого она снята, должны принадлежать глубокой древности; существующую рукопись можно отнести, по мнению ученых исследователей, по крайней мере, к временам Манассии, сына Иодая (420 лет до Р. Х.). Свиток писан древними финикийскими письменами, которые употребляли евреи до пленения. По возвращении из плена они приняли халдейскую азбуку, попросту называемую еврейской. В синагоге хранятся, кроме Пятикнижия, и другие, как говорят, интересные в историческом отношении рукописи.
22 марта часов в девять утра я выехал из Наплузы по направлению к Самарии , называемой турками Себастиег , а евреями – Шомерон . Часа через три показались на горе большие развалины посреди бедной деревушки. Гора покрыта множеством оливковых деревьев, и вообще вся окрестность представляет богатую и живописную природу.
Древняя Самария была основана в 925 году до Р. Х. Амврием (3 Цар. 16, 24) и сделана столицей израильтян. Ахав, сын Амврия, женился на Иезавели, дочери сидонского царя, и ввел в Самарии поклонение финикийским идолам. По всей вероятности, на вершине холма Сомер был им воздвигнут храм Ваалу (3 Цар. 16, 31–32). В царствование его Бенгадад (892 до Р. Х.), царь Сирии, безуспешно осаждал Самарию в продолжение трех лет; город устоял, несмотря на все ужасы голода, дошедшего до того, что одна мать съела своего ребенка (4 Цар. 6, 24–29).
В 721 году Самария была менее счастлива и подпала под владычество Салманассара, разорившего израильское царство и уведшего жителей его в плен. Вместо них он поселил в Самарии, как видно было выше, вавилонян и куфиян. Впрочем Самария недолго была их резиденцией, которая вскоре была перенесена в Сихем. Иоанн Гиркан после годичной осады овладел Самарией и совершенно ее разрушил. Позже, до Помпея, занимали ее евреи. Август отдал ее Ироду, перестроившему город под именем Севастии ; для защиты его он воздвиг большую крепость и поселил в нем шесть тысяч ветеранов. С тех пор история молчит о Самарии.
Теперь эта деревушка состоит из шестидесяти домов и называется турками Себастиег . Дома построены из каменных обломков древних зданий. Население простирается до пятисот душ, отличающихся диким фанатизмом даже между своими единоверцами. Главный предмет, привлекающий здесь внимание путешественника, составляют развалины церкви Иоанна Крестителя, построенной крестоносцами между 1150 и 1180 годами на развалинах базилики, существовавшей на месте, где, предполагают, была темница и могила Предтечи. Мусульмане, питающие большое уважение к Иоанну Крестителю, выстроили над подземельем, где он погребен, род небольшой мечети, которую они называют Неби-Ягиа («пророк Иоанн»). Пещера высечена в скале; в нее спускаются по каменной лестнице в двадцать ступеней. Спустившись туда без сапог, которые я должен был снять по требованию мусульман из уважения к святыне, равно дорогой для них и для христиан, я увидел бочкообразный свод, а в стене, противоположной входу, несколько ниш, в которых были погребены тела усопших, в том числе и Иоанна. Во время Юлиана Богоотступника гробница Крестителя была вскрыта. Я видел теперь лишь пустые ниши, засоренные мусором. По правой стороне от входа два окна, пробитые в своде, пропускают весьма слабый свет в пещеру, так что без огня там трудно что-нибудь рассмотреть. В 1863 году православные поклонники, совершавшие путешествие в Назарет толпою до шестисот человек, не хотели заплатить обычного сбора мусульманам за вход в пещеру; последствием этого была драка, в которой убиты два турка и ранены несколько мусульман и православных. Зачинщики, говорят, были русские. Заплатив около двух франков за вход и тотчас же почувствовав насморк от холодного пола пещеры, я сел на лошадь и отправился на вершину холма, где виднелись издали древние развалины. На ровной площадке, осененной кудрявыми деревьями, возвышаются верхние части пятнадцати весьма красивых колонн, глубоко вросших в землю. Это, как думают ученые, остатки храмов Ваала и Августа. Подобные колонны беспрестанно встречаются по дороге от Наплузы до Самарии.
Пустынный путь от Самарии до Дженина чрезвычайно живописен и идет постоянно между горами. Под вечер мы въехали в дикое, но красивое и заросшее зеленью ущелье. Долго пробирались мы по нему зигзагами, пока наконец достигли речки, которую уже едва можно было различить в наступившей темноте. Я не видел даже дороги, и лошадь мою вел под уздцы мукир. Шаги ее по каменистой почве звонко раздавались в горах, нарушая, вместе с тихим журчанием речки, молчание ночи. Было что-то торжественное и приятно-страшное в этой тишине и темноте; ухо чутко сторожило каждый неопределенный звук, и рука моя невольно ухватилась за револьвер, когда внезапно раздался в горах пронзительный свист, на который в ответ послышался такой же, с противоположной стороны.
– Что это, Самойло Абрамович? – спросил я. Тот был, видимо, встревожен и отвечал нетвердым голосом:
– Я говорил вам, чтобы вы не оставались так долго в Себвастии. Лукавый знает, что у этого проклятого друза на уме. Они все заодно с разбойниками… Кто это свистит? – спросил он, прихрабрясь, нашего проводника.
– Черт! – закричал тот во все горло и расхохотался как сумасшедший, так что эхо загрохотало в горах.
– Что же ты, проклятый, смеешься? Тебя не шутя спрашивают.
– А ты на что, драгоман? Ты должен все знать. А мое дело – вести, покуда можно, а лошади не пойдут, так станем на ночевую. Они и то еле ноги передвигают, да и я сам устал.
– Далеко ли еще до Дженина? – спросил его мягче драгоман.
– Недалеко… Да тебе что понадобился Дженин? Сиди себе, пока лошадь везет; куда-нибудь приедем.
Друз, видимо, потешался над нашей тревогой, а потому я просил Самойла Абрамовича успокоиться и прекратить расспросы. Мы по-прежнему ехали, не видя перед собою зги, по-прежнему только звонкий стук лошадиных копыт слышался в совершенной темноте… Не менее как через час после встревожившего нас свиста завидели мы вдали огонек, потом другой… Это был какой-то запоздавший караван. Поравнявшись с ним, мы спросили, далеко ли Дженин?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: