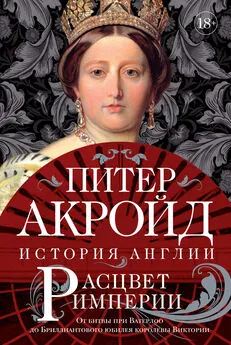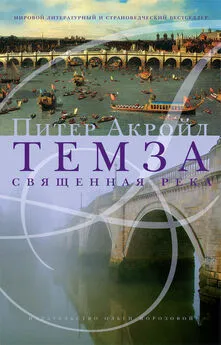Питер Акройд - Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо
- Название:Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2016
- ISBN:978-5-389-19523-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Питер Акройд - Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо краткое содержание
Период между Славной революцией (1688) и победой армии союзников при Ватерлоо (1815) вобрал в себя множество событий. Поражение Якова II и правление Вильгельма III Оранского, война за испанское наследство, начавшаяся со вступления на английский престол королевы Анны, присоединение Шотландии к Англии и, следовательно, образование Великобритании в 1707 году, правление Георга I (правнука Якова I), якобитское восстание 1715 года, война четверного союза 1718–1720 годов, правление Георга II, война за австрийское наследство и семилетняя война, правление Георга III с такими важными вехами, как присоединение Ирландии и война с Наполеоном… Именно на этом отрезке времени парламент стал суверенным органом с обязанностями, намного превосходящими монаршие, были основаны Банк Англии и Лондонская фондовая биржа, а беспрецедентные технологические инновации превратили Англию из сельскохозяйственной страны в страну стали и угля. Значительные преобразования произошли и в культурной жизни – появились газеты и родился жанр английского романа. 37 иллюстраций на цветной вклейке сопровождают детальный портрет эпохи, созданный выдающимся мастером исторического повествования Питером Акройдом.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Революция. От битвы на реке Бойн до Ватерлоо - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Даниель Дефо – ярый сторонник ценностей среднего класса, правда порой сбивавшийся с праведного пути, в первой главе романа «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) словно напоминает сам себе, что «среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия: мир и довольство – слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия – его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу – покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнем честолюбия» [20] Перевод М. А. Шишмаревой.
.
Благосостояние граждан неизменно росло по мере укрепления экономики. В начале XVIII века каждого седьмого можно было причислить к среднему классу; спустя сто лет это был уже каждый четвертый или пятый. Впрочем, некоторые из них с беспокойством осознавали свой промежуточный статус и пытались как можно дальше отойти от рубежа нищеты, подражая манерам и образу жизни высших сословий. Нужно было во что бы то ни стало держать лицо; следовало не только быть кредитоспособным, но и производить соответствующее впечатление, чтобы не оказаться на дне общества. Конечная цель состояла в том, чтобы за одно или два поколения пополнить ряды знати.
Среди представителей среднего класса было немало сторонников англиканской церкви, однако в пропорциональном отношении преобладали диссентеры или нонконформисты. Ведь именно в основе их религии лежали тяжелый труд, предприимчивость, честолюбие и упорство. Государство уже отчасти смирилось с религиозным сектантством. Пресвитериане, конгрегационалисты и арминиане, например, были частично признаны в результате принятия Акта о веротерпимости 1689 года (Toleration Act), хотя им по-прежнему запрещалось занимать государственные должности. Их церкви и молельни составляли часть городского и сельского пейзажа. Квакеры, некогда участвовавшие в шествиях обнаженными «в знак следования» заветам двадцатой главы Книги пророка Исаии, действительно вели себя, по словам коллекционера Авраама де ла Прима, «скромно и благочестиво». Таков был вектор развития всех радикальных сект. Со временем их адепты становятся куда более спокойными и почтенными; что и говорить, они становятся старше. Однако методистское возрождение, пик которого пришелся на последующие десятилетия, позволило пробудить первобытный огонь в душах фанатичных евангелистов. Такой ревностной борьбы с ортодоксальной закостенелостью Англия не видела с середины XVII века.
Разумеется, многие и вовсе обходились без религии, если не считать пережитков язычества и природной духовности, унаследованных от поколений прошлых веков. В начале XVIII века низшее сословие зачастую определяли как «механическую часть человечества». Они жили разнообразным ручным трудом. Это были в буквальном смысле «руки» страны, которые подавали еду, таскали воду, рубили деревья, шили и пряли. Все они составляли крупнейший класс рабочего населения: от шахтеров до швей манто, от часовщиков до лавочников и от лакеев до поваров. Дефо писал о них: «много работают, но мало хотят», а еще «сельские жители, фермеры и так далее, кому безразличны достижения». Некоторые из тех, кто работал на земле, не могли в полной мере насладиться ее плодами. Если их свиньи давали поросят, а куры – цыплят, их, вероятнее всего, относили на рынок, а не подавали дома к столу. Крестьяне продавали выращенные собственными руками яблоки и груши, а сами питались снятым молоком или молочной сывороткой, в то время как их покупатели лакомились сливками и сыром. Неустанный труд крестьян на благо страны так и остался подвигом безымянного героя.
С появлением новых веяний в исторической науке специалисты по истории общества обратили взор на тех, кто находился в еще более сложных обстоятельствах. По некоторым оценкам, до промышленной революции примерно четверть всего населения жила за чертой бедности. Это были те, кто, по словам Дефо, «много работал». Их также можно назвать «работавшими нищими». Одним из них был Джереми из пьесы Уильяма Конгрива «Любовь за любовь» (Love for Love; 1695), который, рассказывая о себе, говорил: «Зимой моя матушка торговала устрицами, а летом – огурцами, а я появился на свет, поднявшись вверх по лестнице, ибо родился в подвале» [21] Ср. пер. Р. В. Померанцевой: «…матушка зимой торговала устрицами, а летом – огурцами, и в мир я вошел по лесенке, ибо родился в подвале».
. С тех пор он неплохо преуспел, став слугой джентльмена. Именно в этом и заключалась ценность этого класса. Его члены могли быть весьма полезными; один факт, что их число было огромно, являлся настоящим благословением для богатых. Нищие пополняли ряды рабочих на фабриках и заводах, скромно выполняли обязанности прислуги на кухне. Считалось, что дисциплина, лишения и тяжелый труд были универсальным лекарством от безделья, даже если, как говорил сэр Уильям Питт, вся их работа заключалась в перетаскивании камней из Стоунхенджа к Тауэр-Хилл.
Те же, кто находился на самом дне социальной пирамиды, были сплошь жалкими, несчастными и никуда не годными отбросами общества. К ним относились попрошайки, бродяги, калеки, умалишенные, а также все многочисленное племя бездомных оборванцев в лохмотьях, которые ютились в дырах в стенах, шахтах, хлевах и на чердаках. В одном из анонимных памфлетов 1701 года под названием «Рассуждения о моральном облике нации» (Reflexions Upon the Moral State of the Nation) утверждалось, что эти отверженные «жили скорее как крысы или другие мерзкие твари, нежели как создания рода людского». Беспомощные и неизлечимо больные, они зачастую оказывались брошенными и забытыми. О них вспоминали, лишь когда они участвовали в мятежах, беспутствах или оказывались разносчиками эпидемий. Обитатели улиц вызывали страх и отвращение, и даже самые щедрые порывы реформаторов не могли повлиять на их жизнь. От нищих невозможно было избавиться, исключить их из социальной иерархии, но при этом они оставались неприкасаемыми.
Смерть королевы Марии в Кенсингтонском дворце в конце 1694 года погрузила Вильгельма в скорбь и траур столь глубокие, сколь и неожиданные. Мария скончалась от оспы во время особенно холодной зимы. Всякий раз, когда ее супруг отправлялся с армией на континент, она замещала его с некоторой неохотой. Она чувствовала себя «лишенной всего, что так дорого в лице мужа, покинутой и одинокой среди совершенно чужих людей»: «Сестра моя так сдержанна и серьезна, что едва ли может меня утешить». В действительности Мария и ее сестра Анна почти не разговаривали друг с другом. Когда Вильгельм был рядом, Мария без раздумий выполняла все его желания, однако она обладала не только покладистым нравом, но и жизнерадостностью и живостью, которые не часто проявлялись у ее супруга. Впрочем, в его отсутствие она демонстрировала решимость и королевское достоинство. По усопшей скорбели повсеместно и, возможно, даже искренне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
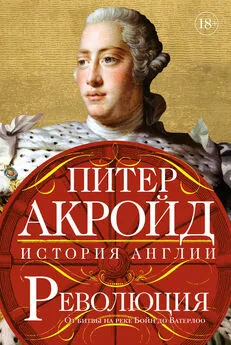
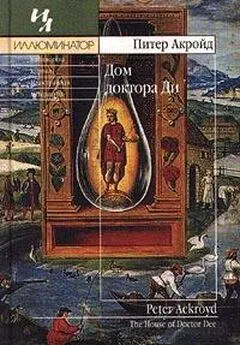
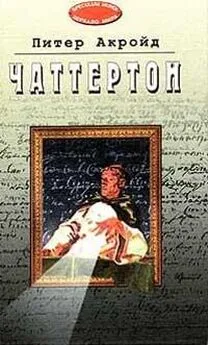
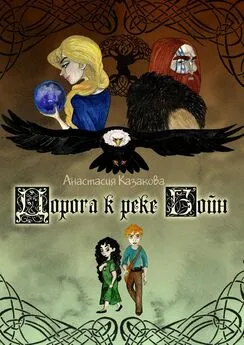
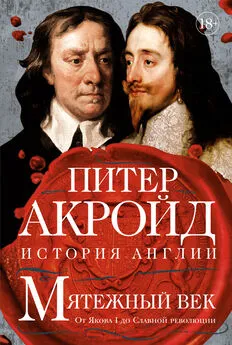
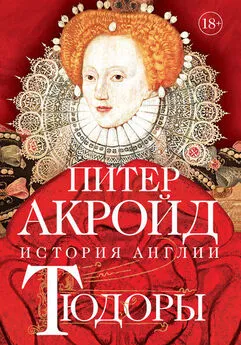
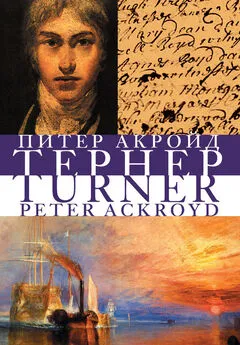
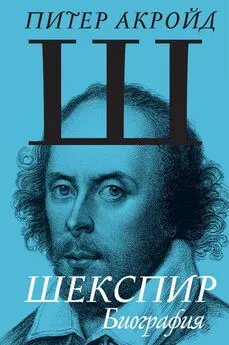
![Питер Акройд - Темза. Священная река [litres]](/books/1149664/piter-akrojd-temza-svyachennaya-reka-litres.webp)