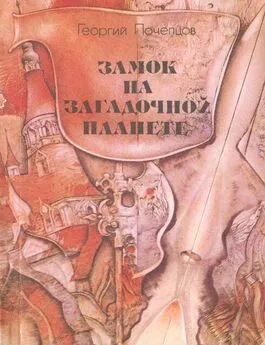Георгий Почепцов - КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием
- Название:КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2020
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-9119-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Почепцов - КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием краткое содержание
Книга основана на свидетельствах очевидцев и аналитических исследованиях специалистов.
КГБ Андропова с усами Сталина: управление массовым сознанием - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одним из направлений изменения ментальности, вероятно, является попытка предложить обществу новые критерии успеха и успешности. В перестройку, например, это делали ТВ-программы «Взгляд» и другие, созданные с помощью генерала Бобкова и А Яковлева, якобы для того, чтобы отвлечь молодежь от слушания зарубежных радиопередач. Если программа «Время» давала в качестве примера успешности какого-нибудь партийного человека в костюме и галстуке, то во «Взгляде» это мог быть человек в рубашке, получивший свою известность или как диссидент, то есть как тот, с кем боролся человек в галстуке, или как человек из сферы свободного времени (актер, режиссер, журналист, писатель). Первый был косноязычен, второй — златоуст.
Однотипные примеры были и после перестройки. Как пишет А. Кох: «Умер генерал КГБ Ф. Д. Бобков. Главный борец с инакомыслием и диссидентами в андроповском КГБ. Основатель Пятого Главного управления КГБ СССР. Один из создателей медиаимперии Гусинского (НТВ, Эхо Москвы и т. д.). Сейчас Венедиктов заверещит: ложь, неправда, Бобков не имел никакого отношения! Но это — правда» [10]. Ему вторит и А. Эскин: «НТВ с „Новой газетой” и „Эхом Москвы” с „Открытой Россией” вкупе суть не иначе, как креатив бывшего Пятого управления КГБ» [11].
Собственные медиа, куда мы отнесем и литературу, кино, театр, оказались главными разрушителями СССР, а не никакие американские ракеты и солдаты. Но еще сильнее на массовое сознание повлияла советская массовая культура, в первую очередь театр и кино, активно тиражируемая телевидением.
Советский человек старался услышать и увидеть вовсе не то, что его заставляли слышать и видеть пропагандисткие вожди. Странным и непонятным образом у советского человека все равно оставался выбор, и этот выбор позволял ему сохранить себя, не превратившись в «оловянного солдатика партии», готового по ее зову…
Вот, например, интересное замечание о М. Захарове: «Цензура на ТВ парадоксальным образом была снисходительнее, чем на большом экране — возможно, лишь потому, что кинематограф Ленин обозначил как важнейшее из искусств, а про телевидение дать ценные указания не успел по независящим от него обстоятельствам. Так что в посте вестей с полей и выступлений дорогого Леонида Ильича советский человек часто получал возможность, что называется, глотнуть воздуха — и фильмы Захарова были в этом отношении почти чистым кислородом. Он говорил иносказательно, конечно, — иначе в те времена говорить так, чтобы тебя услышала вся страна, а не пара сотен потребителей „самиздата”, было просто невозможно. Но в Бургомистре, Короле, Главнокомандующем, Министре-администраторе зрители видели вовсе не сказочных персонажей» [12].
У Захарова в голове была важная аксиома, которой он пытался придерживаться. Она звучит в названии одной из его книг — «Театр без вранья». Общаясь со взрослым зрителем, надо было следовать именно этому принципу. И это удавалось сделать Захарову именно в форме сказочных персонажей.
Но не только: «Тему вранья и конформизма, а также того, что может ему помешать, Захаров так или иначе неоднократно затрагивал в своем обширном театральном творчестве. В 1966-м поставил в Студенческом театре МГУ спектакль „Хочу быть честным” по повести Владимира Войновича о совестливом прорабе, через год практически взорвал Театр Сатиры своей постановкой „Доходного места”, где Жадов в исполнении Андрея Миронова терзался невыносимым нравственным выбором, а в перестроечные годы „ленкомовский” спектакль „Диктатура совести”, построенный в форме допроса, позволял протестировать на лицемерие и фальшь различных политических деятелей, исторических и литературных персонажей» [13].
Но ростки и целые деревья фальши остались, перешли в постсоветское время. Модель неправды, выдаваемой за правду, прочно сидит в наших мозгах. Это касается как публицистики, так и науки, которая так и не избавилась от идеологической составляющей.
Как справедливо замечает М. Кантор — на место прошлой идеологии пришла новая, идеология успешности: «Прежде защищали свою, недоступную идеологии, территорию; и в качестве редутов и флешей — дабы идеология не просочилась — воздвигли укрепления из ветхих дачек и кухонек; именно там сохраняли свободную речь. Так кружки интеллигентных людей отстаивали свое независимое бытие: они могут нас стереть в пыль на партсобрании — но мы их проклянем у себя на кухне. Принцип несотрудничества с властью был вне обсуждений. Не продаваться, не доносить, не делать карьеры за счет соседа, не кадить начальству — правила кухонных посиделок составляли безусловный кодекс советского интеллигента. Ушла Советская власть — и, как казалось, ушла необходимость обороны. Прежней идеологии не стало, но боевая единица „кружка единомышленников” сохранилась. Правда, стало неясно, в чем состоит „единомыслие”. В условной „порядочности”, разумеется: прежде было ясно, по отношению к чему мерять порядочность; а теперь? Теперь усилиями кружков „единомышленников” и взаимных договоренностей делалась карьера — казалось бы, не связанная с идеологией. Впрочем, это лишь так казалось: на месте прежней идеологии появилась новая — идеология успеха. И прежнее начальство сменилось на новое; впрочем, нередко это были те же самые лица. Так называемая „прослойка” (определение интеллигенции в советские времена) оказалась стремительно размытой: научные карьеры уже не привлекали; все затмили достижения культурных менеджеров и ведущих журналистов. Возникли альтернативные пути, имеющие будто бы отношение к интеллектуальным занятиям. Появились фонды, распределяющие гранты; возникли новые издательства и журнальные коллективы, их патронировали соткавшиеся из воздуха богачи; возникли новые институты под крылом богатых людей. Наука, как таковая, государством дотировалась плохо, а вот фонды цвели. И принцип „междусобойчика”, который был необходим для самообороны в годы Советской власти, сохранился, мимикрировал в принцип „полусвета”, в закон „тусовки”, в своего рода круговую поруку и соглашательство избранных. Прежде главной похвалой интеллигенту было определение „непродажный”, но вдруг выяснилось, что если интеллигент плохо продается и плохо покупается, то его не позовут в привычный кружок. Отныне требовалось быть хорошо продаваемым, а тот, кто кичился „непродажностью”, устарел» [14].
Правда, одновременно это было результатом смены иерархий в обществе, в результате которой многие не выжили, а многие, наоборот, преуспели, влившись в новые иерархии.
Есть несколько таких гипотез, отображающих ситуацию, к которой мы пришли, именно как результат такой большой удавшейся игры. Подчеркнем еще раз, это скорее гипотезы, чем реальные ответы, поскольку они не имеют привычного документального подтверждения. Но если подтверждено, что советских экономистов готовили точно так, как готовили чилийских перед свержением Альенде, можно предполагать и такую же конкретику по остальным вопросам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: