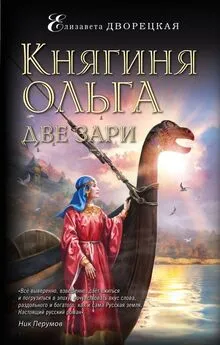Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Название:Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторское
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] краткое содержание
Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Главным образом из Византии происходили дорогие шелковые ткани, из которых изготавливались одежды высших слоев общества (иногда привозили уже готовое платье). Шелковые ткани или покупались на царьградских рынках, или получались как дипломатические дары. Вид этих роскошных одежд достаточно хорошо известен по фрескам, мозаикам, книжным миниатюрам самой Византии и частично по фресковой живописи Софии киевской (XI века). Византийское парадное платье имело немало разновидностей. Мужской костюм часть фасонов позаимствовал с Востока, откуда они перешли на Русь и в Скандинавию – это род распашной одежды с отделкой определенного типа обычно называют кафтанами. И мужское, и женское греческое платье отличалось «монументальным» покроем – широким, длинным, прямым. Мантии, покрывала и накидки драпировались красивыми скульптурными складками. Вытканные узоры поражали разнообразием и многоцветьем. Популярны были узоры в виде различных животных, как реальных, так и фантастических – коней, слонов, грифонов, львов, оленей, крылатых коней, орлов, павлинов и других птиц. Нередко использовался сюжет охоты: тканый узор изображал в пяти-шести цветах целую сцену с фигурой конного лучника, льва, собаки, дерева в лесу. Иногда раппорт (повторяющийся элемент узора) был так широк, что на всю человеческую фигуру приходилось всего пять-шесть раппортов. По сравнению с одеждой домашнего изготовления, из льна и шерсти, эти ткани, гораздо более яркие, считались очень престижными. В самой Византии богатые одежды из одного вида шелка щедро отделывались другими видами шелка, так что общий облик получался очень яркий и выразительный (особенно когда несколько предметов одежды, украшенных таким образом, надевались один на другой). На Севере, где шелк был еще дороже, края шерстяной одежды обшивали настолько тонкими полосками, что узора на них было не разобрать.
Яркий пример такого платья являет платье дамы из псковского погребения номер 3 – благодаря чрезвычайно богатой шелковой отделке, нашитой на скандинавский хенгерок. Что она носила скандинавское платье, доказывает наличие двух скорлупообразных плечевых фибул (того же типа, что в Киеве). Этот комплект одежды был не надет на тело погребенной, а сложен в берестяной короб – вторая перемена платья в долгий путь. В него входила льняная сорочка со сборчатым воротом; такая же найдена в Гнездово, и этот фасон в народном костюме дожил почти до нашего времени. Узкие манжеты сорочки были обшиты полосой шелка шириной 10 см, подол, вероятно, тоже. Сам хенгерок был по верхнему краю отделан полосами шелка, сине-желтого цвета, со сложным узором, который имеет специальное название – «охота Бахрам Гура» и изображает всадника с луком. Этот тип шелка, византийского производства, в X веке был не просто очень дорогим: он изготавливался в императорских мастерских и вообще не поступал в свободную продажу, а подносился в качестве дипломатических даров. В чем можно увидеть довод в пользу того, что в погребении номер 3 – еще одна из княгинь-родственниц. Или она получила этот кусок шелка от кого-то из ездивших туда. Например, от дамы с милиарисиями из погребения номер 1.
Видимо, эти две моды – скандинавская и византийская, – и определяли состав гардероба и самой княгини Ольги, и ее приближенных. Дорогое греческое платье наверняка попадало на Русь задолго до нее – как добыча Аскольда и Дира, как дары и дань, привезенные Олегом Вещим. В состав даров, полученных Игорем на Дунае, дорогие ткани входили наверняка, и можно уверено предполагать, что в 943–945 году у Ольги появилось много новых роскошных платьев. И конечно, немало этого она привезла из собственной поездки в Царьград. Условно можно предположить, что в повседневности она носила скандинавское платье и/или хенгерок (хенгерок надевался как прямо на нижнюю сорочку, так и на платье) с серебряными, позолоченными наплечными застежкам и с подвешенной между ними нитью бус. В торжественных случаях княгиня надевала византийскую далматику и мантию узорного многоцветного шелка. Могла она получать и украшения византийской работы – роскошные даже на современный взгляд кольца, серьги, подвески к головному убору, браслеты, ожерелья, застежки-фибулы, – тонкой работы, с золотой зернью, эмалью, жемчугом, самоцветными камнями. Вероятно, поверх покрывала (оно закрывало волосы и шею, а один конец спускался на плечо) она носила очелье с нашитой тесьмой, сотканной из шелка с серебряной или золотой нитью – такие найдены в Пскове, в Киеве, в шведской Бирке. В качестве височных колец и киевские, и псковские знатные дамы носили колечки с нанизанными бусинами (их находят возле черепа) или более сложные формы, с зернью и подвесками (в Великой Моравии этого времени известны совершенно роскошные виды).
Чего княгиня Ольга точно никогда не носила, так это шапки с меховым околышем (шапки русские женщины начали носить только в XVI веке), царского венца с подвесками (титула, дающего право на такой венец, Ольга не имела) и бармы-оплечья с каменьями, которые художниками тоже заимствуются из более поздних царских уборов.
Часть седьмая
Жизнь после смерти
В церковной стене было оконце…
Почитание Ольги началось очень скоро после смерти. Это видно из того, что Владимир, перенеся (вероятно, в 1007 году) ее останки в новопостроенную Десятинную церковь, не устроил погребение под полом, а поставил саркофаг в помещении, чтобы дать верующим доступ. Чудеса – важное условие святости – начались немедленно.
Псковская редакция жития рассказывает следующее. По прошествии долгого времени после смерти Ольги внук ее, Владимир, вспомнил о мощах своей бабки; отправившись с митрополитом, со всем священным собором, с фимиамом и псалмопением, пришли на место, где была похоронена Ольга, раскопали землю и нашли тело святой неповрежденным. Прославив бога за это чудо, Владимир и его люди взяли мощи и перенесли в церковь Пресвятой Богородицы, где поместили в деревянном гробу, который, вероятно, при Ярославе Мудром заменили на каменный. И «на верху честнаго гроба» – надо думать, сверху в крышке – было сделано оконце, через которое видно, как тело блаженной великой княгиня Ольги лежит нетленно и светится, «яко солнце». Приходящим с верой это оконце открывается, и происходит возле него много исцелений. «О дивное и страшное и преславное чюдо, братие, и похвалы всякиа достойно: тело честное и святое во гробе цело, аки спя, почивает!» – так завершает автор жития свой рассказ.
«Степенная книга», кажется, хотела нам сказать, что в мудрости своей Ольга предвидела свою будущую славу. «Прославляет Бог угодников своих не только в этой жизни, но и после смерти, – учит она сыновей русских, – многие чудеса происходят от них, различные исцеления они расточают. Многие из них в гробах лежат, но мощи их, как живые, нетленны пребывают до общего для всех воскресения». Здесь она с полной уверенностью описывает свою же посмертную участь: нетленность, исцеления.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]](/books/1068370/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-plameneyuchij-mif.webp)



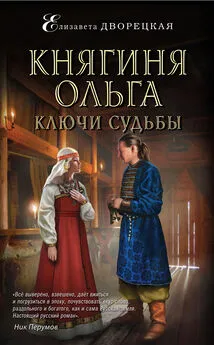
![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Сокол над лесами [litres]](/books/1078936/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-sokol-nad-lesam.webp)