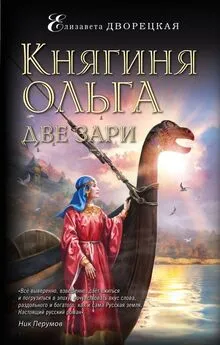Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Название:Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторское
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] краткое содержание
Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не знаю, действительно ли В. Бахревский спутал двух Адальбертов по невнимательности или сделал это нарочно, чтобы иметь возможность упомянуть о том, что незадачливый миссионер был убит в ходе такой же миссии прусскими язычниками. Насчет Адальберта-Войтеха это правда. А если бы его героем был Адальберт Магдебургский, то пришлось бы сказать, что двадцать лет спустя тот умер спокойно, на высшей должности, имея репутацию мужа великой святости, что произвело бы в романе совершенно не тот художественный эффект. Но тогда почему этот герой объявлен посланцем Оттона – ведь Адальберт-Войтех жил в Чехии, а не в Восточно-франкском королевстве, и был (с середины жизни) подданным Болеслава Второго из рода Пржемысловичей. Общался с Оттоном III, а не его дедом – Оттоном I, пославшим эту миссию на Русь и умершем в 973 году… Создается впечатление, что автор просто слепил своего непримиримого епископа из двух разных людей, взял у каждого подходящие черты и создал персонаж, нужный для решения его художественных задач. И в этом смысле персонаж удачный: наглый самозваный «просветитель», грубо нарушающий законы и обычаи страны, куда явился, как выяснилось, без приглашения. И германец Оттон как его покровитель подходит на эту роль куда лучше чеха Болеслава – тот славянин все-таки, не предок будущих «псов-рыцарей».
Удивляет пассивная роль Святослава – уже восшедшего на трон и обладающего всей полнотой власти, тем более что вещей старицы в Киеве сейчас нет. Сначала он, сидя на дереве, просто наблюдает, как иностранцы-иноверцы творят насилия над его подданными, подвергают телесным наказаниям свободных людей, которые находятся в своей стране и не нарушили никаких ее законов. Потом князь так же молча смотрит, как чужаки оскорбляют славянских богов вмешательством в обряды, потом сам спасается в реке от плетей! Но молчит, целиком предоставляя инициативу простым людям. И простые люди решают проблему путем того же насилия: погром, избиение, поджог, убийства. А ведь Святослав мог бы это все предотвратить – и оскорбление праздника, и вызванные этим беспорядки с убийствами. Более того – обязан был, раз уже князь теперь он.
Возможно, таким путем автор хотел подчеркнуть, что весь народ отверг немецкую миссию, не боясь самых жестких средств. Повинными в навязчивости и грубом самоуправстве оказались Оттон и сам Адальберт, а княгиня Ольга виновата лишь краешком – она вовремя отреклась от миссии, потом уехала, бросив ее на произвол судьбы. Короче, умыла руки. Святослав же и вовсе един с народом во всем, от прыжков с девами через костер до принятия немецких плетей.
Такова в целом тенденция – решительное отрицание миссии Адальберта, полное неприятие самой возможности, чтобы русское христианство хоть чем-то было обязано католическому Западу и Римскому папскому престолу.
Это отрицание свойственно не только писателям-романистам. В «Очерках по истории русской церкви» А. В. Карташёв писал:
«Она (Ольга – Е.Д.) знала, как низко котируется при византийском дворе вся помпа Западной империи. Она мечтала о приобщении не к компании «урузпаторов», а к достоинству единственно подлинных царей всего православия. Но не все в ее свите с ней могли быть согласны. Люди западной комбинации могли надеяться, что, если они привлекут в Киев западных миссионеров и епископов, то и Ольга преклонится перед свершившимся фактом. И эти мечтатели из окружения Ольги задумали тайком создать такое положение. Пользуясь непрерывно существующими организованными коммерческими и политическими сношениями с западно-европейскими государствами, эти варяжкие элементы очередных посольств задумали предпринять нечто на свой страх. А именно: злоупотребляя своим посольским положением, выдать свой авантюрный план за прямое поручение княгиня Ольги. Они даже торопились, ибо наступил уже срок конца опекунского положения Ольги над властью Святослава, знаменосца язычества. Русская летопись об этой бесславной авантюре хранит скромное молчание, а западные летописцы громко кричат».
Неудивительно, что бывший обер-прокурор Святейшего правительствующего синода точно знал, где «урузпаторы», а где «единственно подлинные цари всего православия». (А заодно и о том, о чем мечтала княгиня Ольга. Я, например, этого не знаю.) Мне неизвестно, был ли В. Бахревский знаком с «Очерками» Карташёва, но схема событий совпадает: лживые «варяжские элементы» в лице бывших послов устраивают авантюру и приглашают миссию, не имея на то полномочий от Ольги. Однако логика этого рассуждения прихрамывает: если эти «люди западной комбинации» знали, что власть вот-вот перейдет к «знаменосцу язычества» Святославу, то миссии, законные или незаконные, уже были бесполезны, все равно их деятельности скоро положат конец. Даже и Ольга едва ли «преклонилась бы перед фактом», если бы ей попытались навязать непрошеных «узурпаторов» вместо подлинной веры, а Святослав и подавно этого бы не потерпел. Но главное совпадает и в научной, и в художественной версии: приглашение западной миссии было незаконным, равноапостольная Ольга этого не хотела.
Карташёв прав насчет «непрерывно существующих организованных коммерческих сношений» – регулярное присутствие русских купцов в Моравии и Баварии документально и научно подтверждено начиная с первой половины IX века. Насчет связей политических – сомнительно: некие связи и даже проекты брачных союзов с Германией впервые стали науке известны только со времен Ярополка Святославича, внука Ольги. «Очередных посольств» скорее всего не было, могли быть очередные торговые обозы. Купцы, разумеется, могли исполнять посольские поручения. Но на этот счет у них должны быть владельческие знаки для подтверждения полномочий (серебряная подвеска с двузубцем на одной стороне и увенчанным соколом – на другой), грамоты с княжеской печатью, и даже, пожалуй, письма с изложением сути вопросов. Германия давно была грамотной, и Ольга, чтобы не ударить в грязь лицом, уж наверное имела в это время грамотного «ларника», способного такое письмо составить. Можно было даже не искать латиниста, а написать моравским письмом (существовавшим уже целый век), на славянском языке – сам Оттон Великий его знал. И если представлять людей Х века не простодушными дикарями, а людьми на уровне тогдашней цивилизации, то все это, скорее всего, послы имели. Подделка государственных документов такого уровня «мечтателям из окружения Ольги» с рук бы не сошла, и в чем тогда была их логика? Рисковать разоблачением при дворе Оттона, чтобы потом, в случае успеха своего обмана, бежать в леса, не смея вернуться в Киев, да и то ради затеи, которая почти сразу, при вокняжении Святослава, будет обречена на гибель? Как писал Терри Пратчетт, если люди жили очень давно, это не значит, что они были глупыми.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Пламенеющий миф [litres]](/books/1068370/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-plameneyuchij-mif.webp)



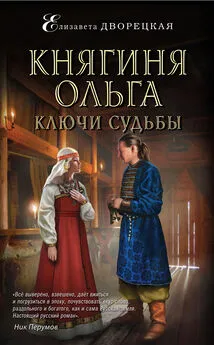
![Елизавета Дворецкая - Княгиня Ольга. Сокол над лесами [litres]](/books/1078936/elizaveta-dvoreckaya-knyaginya-olga-sokol-nad-lesam.webp)