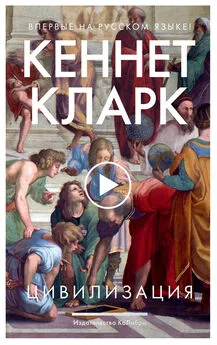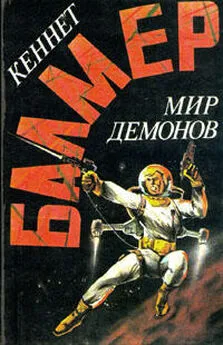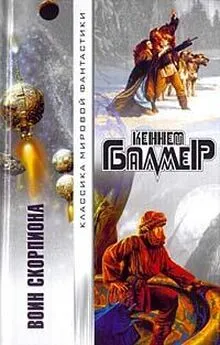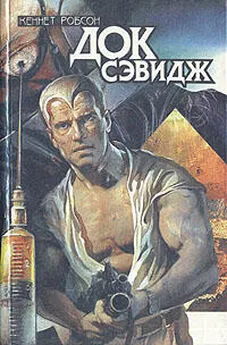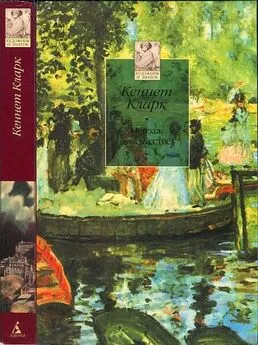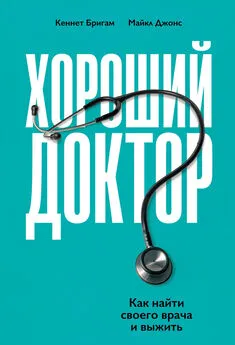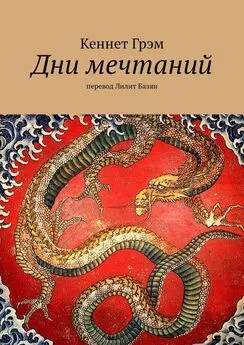Кеннет Кларк - Цивилизация
- Название:Цивилизация
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Колибри, Азбука-Аттикус
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-20358-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кеннет Кларк - Цивилизация краткое содержание
В том же 1969 г. сборник сценариев сериала был опубликован в виде книги, немедленно ставшей бестселлером, переведенной на многие языки и по сей день регулярно переиздаваемой как в Англии, так и в других странах. Сейчас, по прошествии лет, еще более очевидно, что благодаря своей поистине феноменальной эрудиции Кеннет Кларк справился с невероятной сложности задачей. Мастерски легко он переносит своих зрителей – и читателей – из страны в страну, из эпохи в эпоху, словно кусочки мозаики, вдохновенно расставляет по местам идеи, книги, здания, произведения искусства и великих людей, создавая замысловатую и увлекательную картину «цивилизации по Кларку».
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Цивилизация - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бернини тогда было двадцать пять. В следующем году он был назначен архитектором собора Святого Петра и приступил к созданию фантастически виртуозного произведения – бронзового балдахина (кивория) над главным алтарем. Всякий, кто что-то смыслит в бронзовом литье, подтвердит: это фантастика. Помимо всевозможных инженерных проблем, Бернини столкнулся с нехваткой бронзы. Решение было найдено, но какое! Ради новой затеи демонтировали бронзовые конструкции, поддерживавшие крышу древнейшего римского сооружения – Пантеона. Так родилось знаменитое присловье: «Чего не сделали варвары, сделали Барберини». Нельзя не поражаться богатству и смелости фантазии Бернини, совершенству его мастерства – во всем, даже в мельчайших деталях. Но самое удивительное, что Бернини словно бы уже тогда предвидел в своем воображении, каким будет окончательное убранство Святого Петра, ведь невероятный балдахин, спроектированный в 1624 году, органично вписался в общую декоративную схему храмового интерьера, когда сорок лет спустя грандиозная работа пришла к своему завершению.
Бернини, возможно, единственный художник во всей истории искусства, кому оказалось по силам осуществлять колоссальный градостроительный проект на протяжении столь длительного времени. Конечно, и в 1600 году какой-нибудь пилигрим, оказавшись в Риме, наверняка испытывал душевный подъем при виде купола Святого Петра. Но в общем его впечатления от Священного города были, думается, фрагментарны и разрозненны. Теперь попытайтесь представить, что он чувствовал после того, как Бернини осуществил свою великую перестройку. Вот наш пилигрим идет по мосту Сант-Анджело, украшенному статуями ангелов работы мастерской Бернини, и вскоре оказывается на соборной площади, где все ошеломляет и заставляет человека ощутить свою малость. Полукружья колоннады, словно гигантские руки, простираются навстречу ему, чтобы заключить его в свои объятия. Он минует Королевскую лестницу (Скала Реджа), ведущую в чертоги Наместника Христа на земле, и, если заглянет внутрь, увидит конную статую Константина (запечатленного в момент чудесного видения креста) – первого христианского императора, который якобы передал Рим в дар римским папам. Он поднимается по ступеням храма, входит в раскрытые двери на громадном фасаде и сразу проникается впечатлением цельности. И дело не только в том, что внутреннее убранство отмечено единством стиля, – в конце концов, независимо от даты создания отдельных элементов за всем стоит гений Бернини; эффект единого целого возникает еще и потому, что взгляду входящего открывается огромное пространство, лишь условно разделенное балдахином, который не скрывает того, что находится позади него. И вот мы там, перед кафедрой Святого Петра: епископы в развевающихся одеждах, невесомые ангелы и объятые трепетом херувимы… Мы и сами словно бы невесомы, – кажется, тяжкое бремя земных забот спадает с плеч. В своем воображении мы становимся соучастниками (словно зрители на балете) экстатического преодоления земной гравитации.
Однако слово «балет» мгновенно настораживает нас. Бернини не случайно был величайшим сценографом своей эпохи. Джон Ивлин описывает посещение римской оперы в 1644 году, для которой Бернини «делал декорации, вырезал статуи, придумывал механизмы, сочинял музыку, писал либретто и построил театр». Другие мемуаристы свидетельствуют, что на постановках Бернини зрители, сидевшие в первых рядах, срывались со своих мест и разбегались из страха, что их смоет волной или опалит огнем: настолько правдоподобной бывала созданная им иллюзия. Разумеется, театральные работы Бернини давно сгинули, но некоторое представление о них дает фонтан на Пьяцца Навона.
Какое захватывающее представление! Довольно высокий египетский обелиск установлен поверх искусственной полой скалы или грота, как будто весу в нем не больше, чем в изящной балерине. Вокруг расположились четыре гигантские фигуры, символизирующие великие мировые реки, – Дунай, Нил, Ганг и Ла-Плата. Можно трактовать их и как четыре континента или четыре реки Рая: усложненный, путаный символизм был вообще свойствен XVII веку. Наше сознание устроено иначе, но это не мешает нам аплодировать непостижимо плодотворной фантазии Бернини. Я недаром говорю именно о его фантазии, а не о его мастерстве, поскольку к тому времени он обзавелся отрядом очень искусных помощников, и единственная фигура, которую Бернини сделал своими руками, – это конь, атрибут Дуная, неожиданно выступающий из заполненного водой грота (между прочим, у этого скакуна был реальный прототип по кличке Монтедоро).
Театральные склонности Бернини дали потрясающие плоды в оформлении капеллы Корнаро в церкви Санта-Мария делла Витториа. Начать с того, что Бернини разместил мраморные группы членов семьи Корнаро в боковых стенах капеллы, так что они напоминают зрителей в театральных ложах, ожидающих, когда поднимется занавес. Само же драматическое действие разворачивается словно бы на пятачке сцены, выхваченном из темноты снопом золотых лучей. Но на этом аналогию с театром лучше прекратить, ибо перед нами «Экстаз святой Терезы» – одно из самых прочувствованных творений во всем европейском искусстве. В высшей степени присущий воображению Бернини дар сопереживания, умение проникнуться чувствами другого человека – дар, несомненно отточенный практикой духовных упражнений святого Игнатия, – направлен здесь на то, чтобы передать столь редкостное и драгоценное эмоциональное состояние, как религиозный экстаз. Его скульптура иллюстрирует тот самый пассаж из автобиографии святой, где она описывает кульминационный момент своей жизни: как ангел с пламенеющим золотым копьем раз за разом пронзал ее сердце: «Боль от этой раны была так сильна, что я стонала, но и наслаждение было так сильно, что я не могла желать, чтобы окончилась эта боль. Чем глубже входило копье во внутренности мои, тем больше росла эта мука, тем была она сладостнее» [108] Цит. по: Мережковский Д. С. Испанские мистики (Св. Тереза Иисуса).
. Возможно, самую близкую параллель подобному сочетанию глубокого чувства – с сильным налетом чувственности – и безупречного технического контроля можно найти даже не в изобразительном искусстве, а в музыке, особенно в музыке старшего современника Бернини, великого Монтеверди.

Джанлоренцо Бернини. Фонтан. 1648–1651. Пьяцца Навона, Рим. © getty/istock/Diliananikolova
Полагаю, никому не придет в голову обвинить меня в умалении роли Католической реставрации или главного творца ее зримого образа – Джанлоренцо Бернини. Поэтому разрешите мне под занавес сказать, что этот эпизод в истории цивилизации вызывает во мне известную настороженность. Суть моих сомнений может быть сведена к словам «иллюзия» и «эксплуатация». Разумеется, всякое искусство – это иллюзия, в большей или меньшей мере. Оно трансформирует реальный опыт, удовлетворяя некую потребность воображения. Вопрос именно в мере иллюзорности, в том, насколько далеко художник готов уйти от непосредственного опыта. Бернини уходил очень далеко – достаточно вспомнить, как выглядела историческая святая Тереза, с ее заурядной внешностью и бесстрашным, но не лишенным здравомыслия лицом. Какой разительный контраст с изнемогающей от наплыва чувств красавицей в капелле Корнаро! Трудно отделаться от ощущения, что пышное барокко, в своем бегстве от аскетизма первых десятилетий борьбы с протестантством, в конце концов сбежало от реальности в мир иллюзии. У искусства своя собственная инерция развития, и, однажды двинувшись в этом направлении, оно уже не могло остановиться и приобретало все более и более сенсационный характер. Итог – воздушные балеты под куполом церквей Иль-Джезу и Сант-Иньяцио [109] Церкви ордена иезуитов в Риме.
или на плафонах Палаццо Барберини, глядя на которые понимаешь: пробка вылетела. Буйная энергия воображения, шипя и пенясь, вырвалась наружу и устремилась под облака, еще немного – и вовсе испарится.
Интервал:
Закладка: