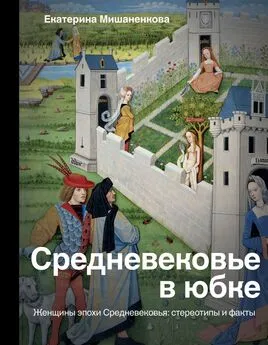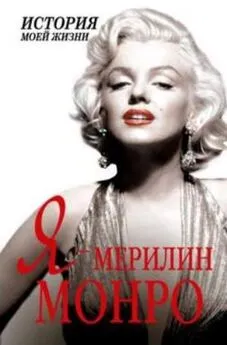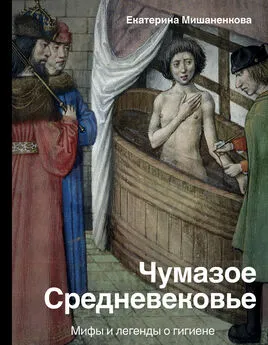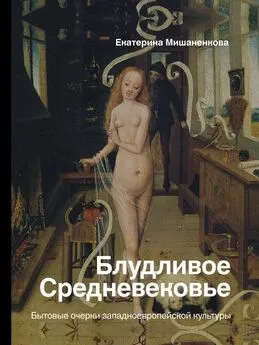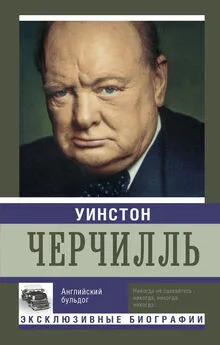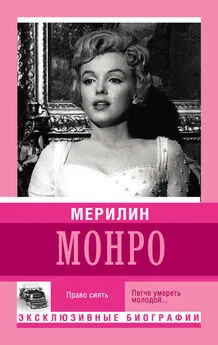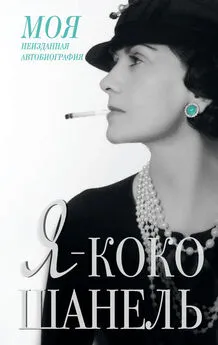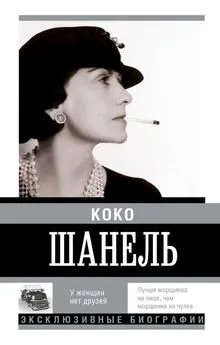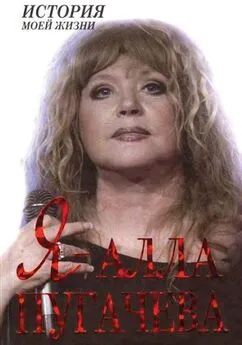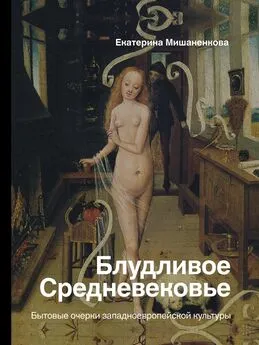Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке
- Название:Средневековье в юбке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АСТ
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-136506-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Мишаненкова - Средневековье в юбке краткое содержание
Какая она — «правильная» средневековая женщина? «Сосуд греха» или Прекрасная Дама? Ценный товар на брачном рынке или бесправная рабыня мужа? Дерзкая блудница или экзальтированная монахиня? А может все это вместе взятое? Или ничего из этого, так что лучше забыть все, что мы знали или думали, что знаем на эту тему, начать изучать все сначала и искать истину где-то в другом месте, где пока никто не искал.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Средневековье в юбке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем не менее, официальные записи свидетельствуют о присутствии женщин во всех областях медицины в течение Средних веков и после, даже в качестве военных хирургов, лечащих раненых солдат, — незначительное, но вездесущее меньшинство».
Отдельно можно сказать об Испании, на большой территории которой в силу арабского владычества подготовленные университетами врачи-теоретики были в меньшинстве, а основу здравоохранения составляли практики — хирурги-цирюльники и аптекари-терапевты, среди которых было и немало женщин. Даже после христианского завоевания Испании многие мусульманские врачи обоих полов продолжали практиковать, получали на это лицензии и успешно лечили как мусульман, так и христиан. В 1329 году в Валенсии под давлением цехового лобби женщинам запретили заниматься медициной, но этот закон еще долго существовал только формально, потому что многие богатые клиентки предпочитали лечиться у женщин, даже если у тех отобрали лицензию.
Рожать или не рожать?
О женских профессиях еще будет отдельный разговор, а пока вернемся к теме родов, рождаемости и репродуктивного здоровья и затронем еще один связанный с нею вопрос.
Каждый раз, когда я что-то рассказываю по этой теме, меня обязательно спрашивают, как в Средние века обстояло дело с контрацепцией. И здесь в очередной раз проявляется разница современного и средневекового мировоззрений, причем связанная не с какими-то философскими или религиозными вопросами, а исключительно практического плана.
В нашем перенаселенном мире, с его трепетным отношением к детству и качественной системой родовспоможения, вопрос ограничения рождаемости действительно стоит очень остро. Настолько, что в некоторых странах эти ограничения вводятся законодательно. Но даже там, где государство хотело бы увеличить воспроизводство населения, люди сами не стремятся рожать. Общественным мнением установлены очень высокие требования к содержанию и воспитанию детей — к тому, как их кормят, в каких условиях они живут, во что одеваются, какое образование получают. В итоге многие люди просто не могут себе позволить больше одного ребенка.
В Средние века ситуация была совершенно другой. Не было ни ювенальной юстиции, ни всевозможных психологов, объясняющих, какой должна быть идеальная мать и как много сил и времени надо вкладывать в ребенка. Не было и трепетного отношения к детству. Да и длилось оно недолго. Зато детская смертность, да и смертность при родах были делом совершенно обыденным. Природа жестоко отсеивала слабых на самой ранней стадии, и людям было нечего ей противопоставить. По данным археологов, скелеты маленьких детей, не достигших семи лет, составляют до 20 % средневековых погребений, а в некоторые, видимо, неблагоприятные периоды — и до 30 %. Во время же эпидемии чумы детей вообще умирало в два раза больше, чем взрослых.
Причем детская смертность оставалась на примерно таком же уровне до самого конца XIX века. Например, П. И. Куркин в своем специальном исследовании и о детской смертности в Московской губернии за 1883–1897 гг. писал: «Дети, умершие в возрасте ранее 1-го года жизни, составляют 45,4 % общей суммы умерших всех возрастов в губернии». Да что там Средневековье и даже XIX век. В 1913 году, который так любят приводить в пример как год наивысшего процветания Российской империи, в этой самой империи умирал каждый четвертый младенец.
В других странах ситуация была примерно такая же.
Данные из доклада Д.А. Соколова и В.И. Гребенщикова «Смертность в России и борьба с нею», 1901 г. С. Петербург:
В Пруссии (1866–1879) на 100 живорожденных младенцев в возрасте до полугода умирали 33,4.
В Италии (1872–1878) — 33,8.
В Бадене (1866–1878) — 34,7.
В Саксонии (1865–1874) — 36,9.
В Австрии (1866–1878) — 39,1.
В Баварии (1866–1878) — 39,6.
В Вюртемберге (1871–1877) — 39,8.
В европейской части России (1867–1875) — 42,5.
То есть до XX века, при всех достижениях медицины в Новое время, все равно умирал каждый второй младенец. В XX веке — каждый четвертый. И только после изобретения антибиотиков младенческая смертность резко снизилась, и в 1946 году умирал уже только каждый десятый младенец.
Если дополнить это достаточно высокой смертностью при родах, всевозможными женскими заболеваниями, отсутствием у медиков многих современных знаний (в том числе таких, которые сейчас известны даже обывателям, например о резус-конфликте) и нерасторжимостью даже бездетного брака, то становится понятно, что в Средние века люди были гораздо больше озабочены вопросами бесплодия, чем контрацепцией.
Сколько длилось детство?
Филипп Новарский [27]считал, что до семи лет продолжается раннее детство, «в течение которого ребенок требует тщательного надзора (из-за особой подверженности «шалопайству», опасности упасть, попасть в огонь или в воду)», дальше ребенок постепенно начинает что-то соображать, и с десяти лет уже способен различать добро и зло, а следовательно — нести ответственность за свои поступки.
Филипп де Бомануар, еще один юрист и философ XIII века, соглашался с Новарским в оценке семи и десяти лет и даже уточнял, что с десяти лет начинается ответственность за особо тяжкие преступления, например за убийство. Но полная дееспособность, по его мнению, наступала с двенадцати лет, по достижении которых можно приносить судебную клятву, выступать гарантом в сделках купли-продажи и т. д.
Церковь была в этом вопросе солидарна с юристами. С двенадцати лет обычно начинался брачный возраст, а если человек может вступать в брак, значит, он взрослый.
Реальная судебная практика подтверждает, что это были не просто теоретизирования — к судебной ответственности подростки обоего пола в Средние века привлекались действительно с двенадцати лет, практически во всех странах Европы мальчики старше двенадцати (реже четырнадцати) лет становились полноправными налогоплательщиками. Так что фактически детство в современном понимании длилось до пяти-семи лет, потом ребенка начинали готовить к взрослой жизни (кого-то отправляли в школу, кого-то в пажи, кого-то учиться ремеслу или прислуживать), и в двенадцать-четырнадцать лет детство заканчивалось.
Нужда в наследнике
В Средние века все были крайне озабочены тем, чтобы оставить после себя наследника, — и речь не только о королях и вельможах, которым нужно было обеспечить продолжение династии. Купцы и ремесленники тоже нуждались в человеке, которому они передадут дело, а крестьяне — в помощниках по хозяйству и, опять же, в наследнике, способном в будущем взять на себя заботу о семье. То есть наличие детей в семье было обязательным и даже необходимым.
Ни о какой философии чайлдфри или желании «пожить для себя» люди и не помышляли. Бездетность приводила к множеству проблем практического плана, а также вызывала осуждение со стороны общества и церкви. Плюс, как уже было сказано, детская смертность была такова, что нельзя было родить одного ребенка и со спокойной душой на этом остановиться, слишком велика была вероятность, что он не доживет до половой зрелости. Поэтому рожали чаще всего столько, сколько удавалось, в надежде, что хоть часть из них выживет. А там уж кому как везло — бывало, что из десятка оставался только один, а бывало, что крепкое здоровье родителей, отсутствие эпидемий и хороший уход приводили к тому, что все дети выживали. Собственно, поэтому и появлялись те достаточно редкие семьи, где значится по десятку и более детей, — разумеется, столько почти никому нужно и не было, это издержки невозможности что-то спланировать и страха остаться без наследника.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: