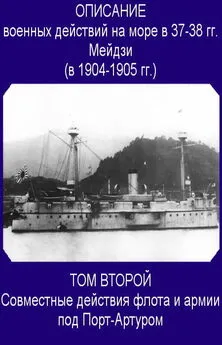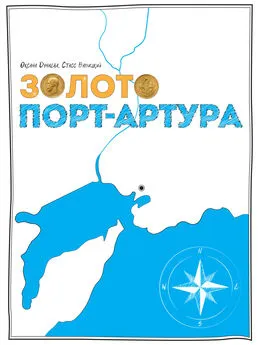Григорий Змиевской - Эхо Порт-Артура
- Название:Эхо Порт-Артура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907332-48-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Змиевской - Эхо Порт-Артура краткое содержание
Но проблемы рубежа XIX–XX веков не смягчились и сегодня, спустя столетие. Поэтому обращаясь к анализу событий, результатом которых стала столь неудачно для царской России завершившаяся война, невозможно не спроецировать их на сегодняшний день. Дальневосточный «котел ведьм» продолжает бурлить, и обстановка на тихоокеанском побережье России накаляется с каждым годом. Это не локальная напряженность, а решение нашей судьбы, поскольку в планах «мирового правительства» – ликвидация России как государства и как этнического сообщества.
Эхо Порт-Артура - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, Сванидзе рассказывает о событиях 1905 года. Предварительно на экране мелькает множество фотографий под тревожную музыку и на кровавом фоне – рассмотреть ничего нельзя, но создается ощущение, что сейчас речь пойдет о чем- то очень тяжелом и страшном. Положительным контрастом с этим проходит кадр с самим Сванидзе. Он спокоен, неторопливо закрывает какую-то книгу (понимай – те самые мемуары Витте) и проникновенно смотрит в глаза зрителю: вот, мол, я весь перед вами. Я честен, ничего не скрываю… Вы должны мне верить (при этом он не забывает выставлять себя то в профиль, то издали, то слишком близко к объективу – это чтобы не слишком бросался в глаза факт его перекошенной от постоянного вранья физиономии. В этом плане он ушел значительно дальше булгаковской секретарши из «Мастера и Маргариты», которая врала существенно меньше, и поэтому у нее перекосило только глаза).
Вот Сванидзе у монумента на Красной Пресне.
Без тени сомнения, как об абсолютно очевидном, «ясном даже и ежу», он говорит, что первая русская революция (от слова «революция» его при этом аж передергивает) была следствием поражения в Русско-японской войне. Этим он уводит зрителя от осознания того факта, что на самом деле причину и следствие надо поменять местами – главными причинами революции вообще-то были невыносимые условия жизни большинства населения России и, соответственно, недальновидная, грабительская по отношению к своей стране и своему народу политика верхушки российской власти (почти как сейчас). Не революция была следствием войны, а война была затеяна для того, чтобы отвлечь народ от революции. Но Сванидзе упорно долбит об этом для того, чтобы привести зрителя к мысли, что причина социального взрыва может быть только внешнеполитической – поскольку на самом деле в империи большинству жилось хорошо и зажиточно, как учит «генеральная линия нейролингвистической пропаганды», – и, если бы не горсточка смутьянов и трагических неудач, ничего такого не было бы. Надо уводить зрителя от сомнений в базовых заклинаниях (смотри выше).
Заезженный тезис о внешних причинах революции стар, как мир. «Дипломированному историку», в частности, полезно бы вспомнить, что написано в «Гражданской войне во Франции» Маркса, где с невероятной силой показано, что не Парижская коммуна была следствием поражения Франции в войне с Пруссией, а сама война с Пруссией была затеяна Луи Бонапартом для того, чтобы «спасти империю», в которой внутренняя политика новоявленного Наполеона привела к невиданному обострению всех мыслимых и немыслимых противоречий.
Но разве примет «нейролингвист» Сванидзе корректные приемы ведения полемики, а именно: превращение ложного авторитета в истинный? Ни в коем случае. Что там Маркс! Вот Витте – это да.
Поэтому не будем обращаться к более чем убедительным аргументам, (по которым учили истории самого Сванидзе), доказывающим марксистско-ленинскую точку зрения на причины революции 1905 г., а обратимся к мемуарам, включающим дипломатические документы – воспоминаниям французского посла в России Мориса Бомпара.
По его словам, «внутренние беспорядки причиняли в это время серьезное беспокойство русскому правительству». Отражение ситуации на 1903 г.: «уже давно происходили студенческие волнения в университетах, а также в промышленных центрах. Одни носили сугубо политический характер, участники других предъявляли требования экономического порядка. Конечно, они не нравились правительству, но они его пока не волновали. Сильно разобщенные, они быстро заканчивались, тем более что не составляло особого труда подавить их энергичными мерами. Только при одном подавлении, по признанию самих властей, было 128 жертв. Но студенты и рабочие не мыслили по-разному, и первые выдавали последним, авансы, которые были услышаны. Это было хорошо видно в марте 1901, когда рабочие, по призыву студентов, сосредоточились в компактном блоке от десяти до двадцати тысяч демонстрантов и прошли по Невскому проспекту, в колонне, разделенной между двумя рядами любопытных, озадаченных этим зрелищем, на глазах у полиции, правда, не давая ей повода для вмешательства. Они хотели в этот день только произвести впечатление на власть своим количеством и своей дисциплиной».
Как видно, г-н Бомпар, будучи более чем далек от марксизма, не гнушался классовым анализом событий в России. Внимательно пронаблюдав за поведением рабочего класса и студенчества (завтрашней интеллигенции), он не мог не обратить взора на самый многочисленный класс России – крестьянство:
«…Но вот в 1903 крестьяне вступают в игру. Их претензии – общественный порядок; в основном, они требовали землю. Это движение, начавшееся еще в 1902, сурово подавлялось. Оно возрастало, и в 1903 грозило превратиться в крестьянскую войну («жакерию», как ее называл на свой, французский лад месье Бомпар. – Авт.). Правительство, наученное опытом, оценило эту угрозу, на этот раз репрессии должны были сочетаться с реформами».
По мнению г-на Бомпара, не без подстрекательства министра внутренних дел Плеве император опубликовал 12-го марта 1903 года манифест, обещавший крестьянам не землю, а улучшение их доли. Режим совместного пользования крестьянской землей, коллективизм крестьян были специально сохранены. Посол отмечал, что « это было странное положение дел, удовлетворение собственников, которое хорошо понималось. Однако, что их касается, то они сохранили свои владения в частной собственности. Тем не менее, сильно дорожили тем, что крестьянин не мог индивидуально стать собственником земли, и он был ограничен коллективизмом в аграрном секторе».
Напрасно посол предпринимал несколько попыток убедить некоторых из представителей властей в несоответствии этих двух способов пользования землей в одной и той же стране. «Кончайте с этим», – говорил я им, – «переходите к другой форме, если удерживаете ваши наделы. Вы опередите революционеров и разовьете у крестьянина вкус к тому, что имеете Вы сами, к частной собственности на землю».
Ему неизменно отвечали, что частная собственность у крестьян неизбежно и очень быстро приведет к неравенству между ними и создаст, таким образом, в России сельский пролетариат, который был одним из слоев западного общества. Тогда как в условиях «мира» (« так называлась в России сельская коммуна » – примечание г-на Бомпара ), сельский пролетариат не существовал; напротив, в крестьянской среде шли слухи о том, что его образование обострит социальную напряженность.
В своих воспоминаниях г-н Бомпар отмечает, что, таким образом, «мир» был сохранен. При этом, по его словам, «… император пытался устранить одно из его наиболее тягостных последствий: коллективную крестьянскую поруку при уплате налогов. Также было объявлено и о другой значительной реформе, послабления для крестьян выхода из своего общественного класса, т. е. освобождаться индивидуально от работы на земле, как в 1861 их освободили от службы своему сеньору».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: