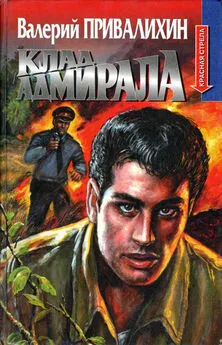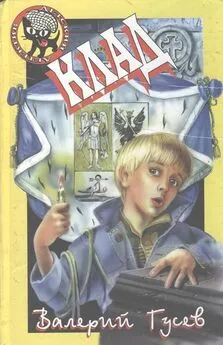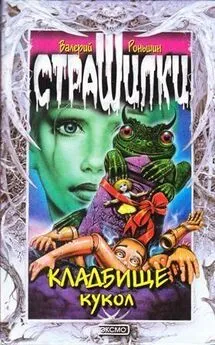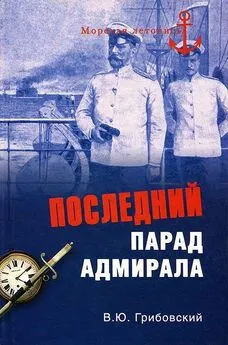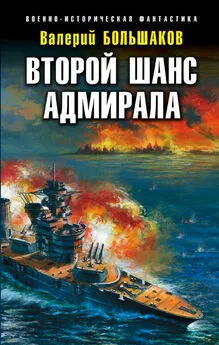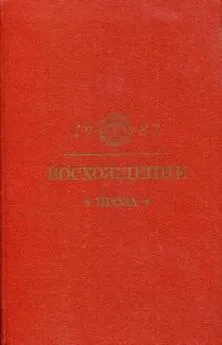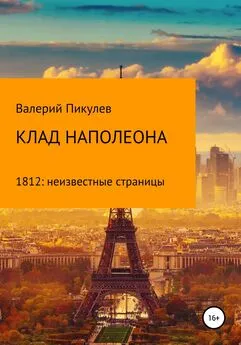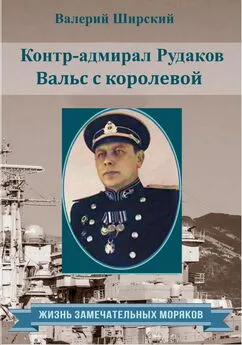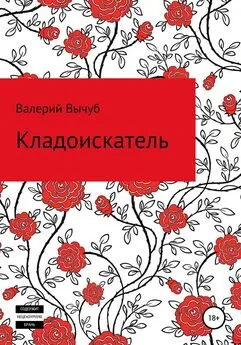Валерий Привалихин - Клад адмирала
- Название:Клад адмирала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЕВА
- Год:1999
- Город:СПб
- ISBN:5-224-00156-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Привалихин - Клад адмирала краткое содержание
События, описанные в романе, охватывают 1919–1943 годы. В них участвуют офицеры царской армии, чоновцы, историки и милиционеры, предводители банд и следователи, лагерные заключенные и их охранники, высокие чины из МВД и КГБ.
Герои нового романа писателя заняты поисками сокровищ, по легенде, когда-то спрятанных в сибирской тайге отступающей армией адмирала Колчака.
Мы узнаем о череде загадочных смертей, на первый взгляд не связанных с тайной золотых запасов. Появляются все новые и новые подробности о возможных местах нахождения клада, и чем больше людей вовлечено в поиск, тем уже круг подозреваемых в убийствах…
Клад адмирала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Во имя Родины решились на все, — выслушав, повторил вслух слова из пепеляевской телеграммы Адмирал. Он сел за письменный стол. С портрета на него глянули молодые глаза старшего его норвежского друга и учителя Нансена.
— Решились на переворот? — живо повернулся лицом к начальнику канцелярии.
— Из разговора с Виктором Николаевичем у меня сложилось мнение, что братья теперь жалеют о своем заявлении, — сказал Мартьянов.
— Где сейчас находится Вильгельм Оскарович? — спросил Адмирал.
— Новый главнокомандующий, по моим сведениям, скоро будет на станции Тайга, — ответил Мартьянов.
— Свяжитесь с ним. Сахарова нужно освободить. А что до Пепеляевых… — Адмирал сделал долгую паузу. — Поговорим по прибытии генерала Каппеля в Тайгу. Вы свободны, Александр Александрович.
Оставшись один, Адмирал остановил взгляд на двери, ведущей в спальное купе. Анна Васильевна слава Богу, не слышала разговора, спит. Не спала бы, уже непременно дверь бы отворилась, и она бы кинулась к нему.
«Спит».
Он опять шагнул к окну, обеими руками уперся в него, сквозь плотную материю ощущая холод стекла.
«Спит», — прошептали его губы. Однако думал он уже не об Анне, а о том, что произошло в Тайге. Можно было вмешаться лично, приказать немедленно возвращаться в Тайгу (всего-то полчаса езды!), освободить Сахарова и приструнить братьев-разбойников, которые конечно же ни на что не решатся. Даже отдать распоряжение арестовать их… Можно было все это делать, а можно — ничего. Потому что от него не зависит уже ровным счетом ничегошеньки. Какие команды он ни отдаст, будут они выполнены либо же нет, куда ни поедет — на запад ли, покуда позволят наступающие красные, на восток ли, куда то и дело тормозят продвижение проклятые чехи, — все уже без пользы.
Покинув три недели назад Омск, он еще надеялся, ждал каждым нервом, придет сообщение: красные остановлены. Не судьба. Не стал преградой для большевиков Иртыш, и теперь лишь чудо способно задержать их. Но в чем в чем, а в делах военных он был реалистом и в чудо не верил. После потери Челябинска он еще не исключал возможности выправления положения, но со сдачей Омска понял: это конец. Он проводил совещание за совещанием в Новониколаевске, прорабатывал варианты, что предпринять, как лучше поступить, чтобы сбить натиск большевиков: выстроить оборону на линии Томск-Тайга-Ачинск и продержаться так в позиционных боях до весны, с тем, чтобы собравшись с силами, нанести мощный контрудар и опять завладеть Южным Уралом, Пермью и оттуда устремиться дальше, дальше, либо уже уйти на Алтай, слиться с частями атаманов Анненкова и Дутова, после передышки снова выставить боеспособную армию, однако и до совещаний в Новониколаевске и во время проведения их он понимал, что все это бессмыслица, прожектерство, слова; не будет никакой оборонительной линии, не возродится армия, умеющая наносить удары, а остатки теперешней, пока еще внушительной по численности, будут отламываться при откате на восток, как куски от гигантского пирога, и исчезать в бездне сибирских заснеженных полудиких просторов, просвистанных жгучими вьюгами, пока воины не сгинут напрочь, на тысячи, на десятки тысяч голосов проклиная его, Адмирала, за бездарность с той же страстностью, с какой год назад славили его полководческий талант… Если бы кто-то из его близкого окружения осмелился напрямую спросить его, зачем он строит какие-то планы, ясно сознавая, что проиграл в пух и прах, он бы лишь со свойственной ему детской прямотой смог ответить, что не может же просто так бросить армию и бежать в одиночку… Но если еще несколько минут назад, до прихода Мартьянова, в тайниках души все-таки теплилась надежда — а пока жива надежда, есть действие, — что, может, может быть, будет перемена к лучшему с его приездом в Иркутск, — он потому и спешил туда, на берега Ангары, и бывал взбешен, когда чехи бесцеремонно останавливали его, Верховного Правителя, поезд, — то теперь и эта надежда угасла…
Сколько же, однако, будем торчать в этой безвестной Судженке?
Опять он отодвинул шторку. Как раз раздался гудок, и поезд тронулся, тускло освещенное здание вокзала скрылось из виду. Тьма аспидная воцарилась за окном. Состав, набрав скорость, мчался, стуча колесами по рельсам, будто в черном провале. И вдруг в этом провале мелькнула бледно-красноватая, с желтизной по нижнему краю лента. Лента эта исчезла, однако, на ее месте появилась звезда — некрупная, но яркая. Одна-единственная на небосклоне.
Он встрепенулся, припал щекой к оконному стеклу, неотрывно смотрел на эту звезду. Поразительно! Так уже было. Во время Полярной экспедиции. Первой? Или же второй? Первой. На зимовке вблизи Таймырских островов в ноябре. Или в декабре. Тогда он в течение всей зимы производил гидрологические наблюдения. В лагуне Нерпалах выдолбил прорубь, проверял, на сколько сантиметров за сутки-двое-трое увеличился ледяной покров. Чтобы всякий раз не долбить новую прорубь, по окончании наблюдений засыпал прорубь снегом. В следующий приход достаточно было лишь разбросать снег и раздолбить новообразованный лед.
И в тот раз он выгреб снег из неглубокой пока проруби, пробил на дне ее наросший лед, остановился на секунду передохнуть и неожиданно — как было только что — увидел на высоте примерно шестидесяти градусов (он умел быстро, машинально определять высоту) бледную ленту, которая так же скоро, как здесь, под Судженкой, исчезла, оставив взамен себя на небе звезду — некрупную, но яркую, волшебно сияющую. Зачарованно глядя на эту звезду, он, тогда молодой лейтенант Колчак, вспомнил Петербург, милое, родное лицо Сонечки Омировой, с которой обручился накануне отправления в Арктическую экспедицию, их прогулки по Фонтанке, по Французской набережной, их поцелуи под шелест листьев в каких-то безымянных, безлюдных темных аллеях, и от тоски и глубокого одиночества среди полярных льдов, от избытка невыразимых чувств как бы сами собой, как бы без его участия сложились стихотворные строки. Строки любви к этой недосягаемой звезде, к жизни, к Соне, к ее нежному голосу с проскальзывавшими иногда, при волнении, прекрасными малороссийскими интонациями, ко всему-всему, что оставил, отправившись на «Заре» в плаванье:
Гори, гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная,
Ты у меня одна заветная.
Другой не будет никогда…
Он смотрел на сверкающую в полярном небе звезду, а строки бежали, слагались легко и свободно, естественно и незамечаемо, как дыхание:
Звезда надежды благодатная,
Звезда любви, волшебных дней.
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей…
Он представил, что пройдет, канет в вечность целя его жизнь, а вот эта звезда, — как все, виденные им в детстве, юности, в дальних плаваньях на южных и северных широтах, и все сокрытые о взора за дальностью их, — будет гореть тем же светом, согревая и холодя душу, внося в нее радость и смуту, другим людям, что и при нем, при его земном бытии. Но, может быть, и он будет чувствовать ее свет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: