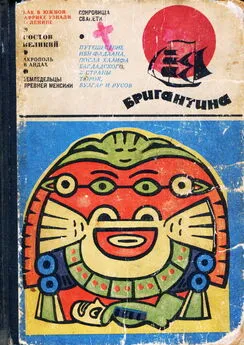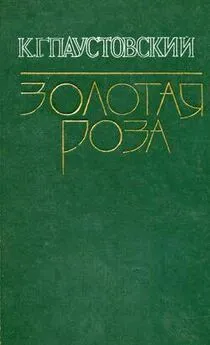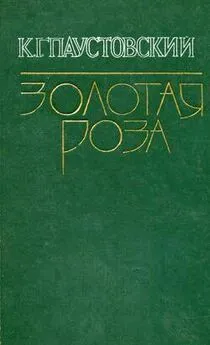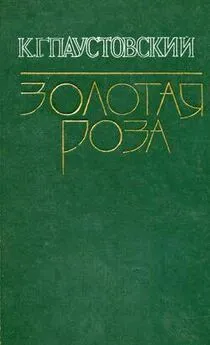Константин Паустовский - Бригантина, 69–70
- Название:Бригантина, 69–70
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Паустовский - Бригантина, 69–70 краткое содержание
Ежегодный альманах «Бригантина» знакомит читателя с очерками о путешествиях, поисках, открытиях.
Бригантина, 69–70 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вагоны сверкали стеклом и медью. Меж кожаных кресел (кожу потом срезали на подметки) расхаживали усатые кондукторы с черными сумками через плечо и никелированными компостерами. Но билет стоил дорого, восемь копеек, и пассажиры моего возраста предпочитали ездить на подножках и на «колбасе».
Спрыгнув с подножки, я останавливался как вкопанный. В этом был особый шик. Надо было податься туловищем вперед, отпустить руки и резко откинуться, чтобы погасить инерцию движения вагона. Потом, помахав кондуктору рукой, я присоединялся к друзьям.
Петр Первый строил флот на Десне. Мы же строили его на другом притоке Днепра — на Лыбеди.
Свой самый быстроходный бумажный кораблик я смастерил из книжки-лубка «Бова-королевич» издателя Губанова, типография которого была на Подоле, возле Контрактового дома.
Мне неизвестно, что означало в глубокой древности слово «Лыбедь». Но до сих пор мне чудится в нем что-то лебединое, белое.
А Лыбедь была простудно-мутной. По ней плыли щепки, солома и лимонные корки.
Только щербатые льдины с грехом пополам могли сойти за лебедей.
Всем приезжающим в Киев рассказывают одну и ту же легенду. Дескать, жили-были три брата — Кий, Щек и Хорив, и была у них сестра Лыбедь. При этом обычно ссылаются на летопись, в которой якобы екаэано: «…и построиша град во имя брата своего старейшего и нарекоша имя Киев». Но, насколько мне известно, этой летописи не существует. Однако улицы Щекавицкая и Хоревая есть в Киеве и по сей день.
Быстрая, торопливая вода подхватывала наши бумажные кораблики и несла их вдоль захламленных глинистых берегов.
Звенели трамваи, стучали по оголившимся булыжникам широкие копыта битюгов, старчески сипели, задыхаясь, черные лоснящиеся паровозы на «товарке» — товарной станции. А мы бежали за корабликами, скользя и падая.
Лыбедь становилась шире; она пенилась. Кораблики выходили из повиновения, скрывались из глаз. Их несло в Днепр, а может быть, и дальше — к Черному морю, туда, где Босфор, Дарданеллы и Гибралтар, в открытые просторы всех четырех океанов.
Мой кораблик превращался в шхуну, в «Летучего голландца», в «Титаника». Он несся по неспокойным водам жизни навстречу подвигам и великим открытиям. К берегам Патагонии («Дети капитана Гранта»), в лагуну длинного и узкого атолла Хикихохо («Жемчуг Парлея» Джека Лондона), в Фриско… Кем станет его капитан? Адмиралом Нельсоном? Амундсеном? Луи Пастером?..
О чем только не мечтаешь в детстве! Я был капитаном Гаттерасом, Квентином Дорвардом и даже Гулливером. Откуда мог я знать, что моему скромному кораблику не суждено войти в бухту Золотой Рог? Это было валкое суденышко. Но я благодарю судьбу за то, что мой кораблик сотни раз путешествовал по Днепру, а потом избороздил вдоль и поперек все Черное море.
Долгие годы потом я по праву носил синий китель и мичманку.
Киевская весна начиналась ночью. Дома сотрясались от мощных взрывов, которые доносились со стороны Печерска. Это саперы, освобождая путь воде, взрывали лед перед мостами.
Мостов было несколько. Но самым знаменитым, которым гордились все жители города, был цепной мост — легкий, кружевной, невесомый. Забегая вперед, скажу, что в печальном сорок первом его взорвал по приказу командования тихий киевский юноша младший лейтенант Миша Татарский.
Открытие первого киевского моста описал в своих «Печерских антиках» Н. С. Лесков, который сетовал на то, что в литературе его считают «орловцем», тогда как в действительности он киевлянин. «Густые толпы людей покрывали все огромное пространство киевского берега, откуда был виден мост, соединивший Киев с черниговскою стороною Днепра». (Через столетие я присутствовал при открытии первого в мире цельносварного моста, построенного знаменитым киевлянином академиком Е. О. Патоном.)
Точно так же тысячи людей ежегодно «покрывали все огромное пространство киевского берега», чтобы полюбоваться ледоходом. На террасах садов, на склонах Владимирской горки собирался, как тогда говорили, «весь город». А внизу глыбились, переворачиваясь и нале зая друг на друга, колотые громадины, и шумела, набирая темную силу, днепровская вода.
К тому же всегда находились фартовые ребята, которые просто так, за здорово живешь, готовы были доказать, что им добраться до Труханова острова — это все равно что раз плюнуть. Они вооружались баграми, поплевывали на ладони и… Женщины ахали, закрывали глаза.
А им хоть бы что. Знай себе сигают с льдины на льдину.
Такое не часто можно было увидеть и в цирке.
На перекрестках голенастые девчонки продавали подснежники.
Теперь киевляне наблюдают за ледоходом с набережной. Но тогда гранитной набережной еще не было — ее построили перед самой войной.
Не было ни речного вокзала, ни дебаркадеров… И напрасно Лесков сокрушался по поводу того, что сносят «живописные надбережные хатки, которые лепились по обрывам над днепровской кручей и… придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный теплый характер». Не так-то просто было от них избавиться. Эти хибары простояли до середины XX века. Дикий хутор, по которому некогда от шинка к шинку в поисках «киевских типов» бродил А. И. Куприн, окрестили Кукушкиной дачей. Когда ее снесли, легкий летний ресторанчик назвали «Кукушкой».
Александра Ивановича Куприна я увидел после его возвращения из эмиграции. Встреча была короткой. Усталые выцветшие глаза (такие глаза бывают у старых днепровских капитанов, привыкших всматриваться в далекие дали), седая щетина… Только узнав, что я не просто журналист, но еще и киевлянин, Куприн едва заметно улыбнулся, и в его глазах появился живой блеск.
В Киеве Куприн жил в «меблирашках» на Александровском спуске, в двух шагах от реки.
Город, насчитывавший двести сорок тысяч жителей, был к тому времени уже крупным промышленным центром. Пароходы и баржи, груженные разными товарами, подходили к киевской гавани, расположенной на берегу реки Почайны, отделенной от Днепра песчаной косой. На ежегодние «Контрактовые ярмарки» съезжались купцы со всех концов России. Между прочим, Контрактовый дом действовал и в первые послереволюционные годы. Мне там покупали медовые пряники и золотисто-сладких «петушков» на палочках.
Куприн любил толкаться на пристанях среди простого люда. Там пахло пеньковыми канатами, березовым соком, дегтем и яблоками. Запахи были сырыми, пронзительными. Поленницы дров, штабеля пятидюймовых досок; дубовые бочки, туго перехваченные железными обручами; плетеные корзины; веники; тюки мануфактуры; рогожа… Чего только не было на этих пристанях!.. Напялив на головы капюшоны из грубых мешков, шаг в шаг поднимались по шатким сходням загорелые грузчики, а потом вслед за «отаманом» одним недовольным поворотом плеча сбрасывали на палубы свою поклажу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: