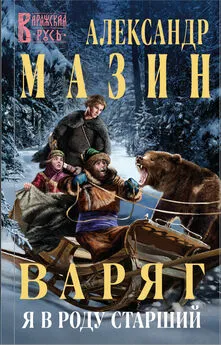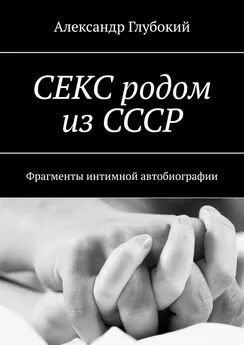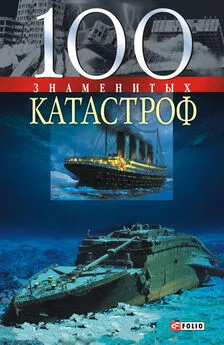Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Название:Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица краткое содержание
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Узкое.
Сосредоточенное.
Ставшее более мягким…
То ли от лунного света?
То ли от какой-то захватившей ее думы, сделавшей столь напряженным ее чело?
И вся она казалась другой.
Таинственной.
Без того выражения капризной властности, без высокомерия недотроги, что порой напускают на себя украинские девчата, без того явного пренебрежения, которое так портило это милое лицо днем.
Панна, видимо, слушала соловьев.
Да, она слушала…
А Михайлик… он слушал панну.
Именно слушал.
Не только смотрел, но и слушал… да, да!
Из-за кустов он видел охлажденное лунным светом ее лицо, — и казалось, будто ясно слышит, что шепчут ее уста.
Будто слышит ее дыхание, панны Ярины.
Будто чует, как бьется ее сердце в лад с его собственным, — так бывает порой у близких друзей, поющих одну песню, или у слушателей и зрителей, что вместе слушают одного кобзаря, одного скрипача…
Одного соловья!
А тот соловейко, — он был там самым неутомимым и усердным, ибо его соперники давненько уж уснули в своих кустах, а он все пел и пел, и Михайлику казалось, что если б, не дай бог, он сам внезапно оглох, то, даже не слыша ни звука, понял бы все в той соловьиной песне — столь ясно, столь звучно она отражалась на тонком и умном лице Ярины Подолянки.
Михайлика люто донимали комары, певчие святого Петра, но Михайлик их не замечал.
Сердце колотилось, дрожали губы, время плыло незаметно, уж больно стремительно летела короткая июньская ночь, и так бы она и долетела до самого утра без всяких чудес, если б тот неутомимый певун-соловейко, в чем-то убедив наконец свою упрямую, безголосую и неприметную избранницу, вдруг не умолк, — хоть, надо сказать, не всегда бывает именно так, когда упрямство и серость наших избранниц удлиняют, совершенствуют и делают более звучными наши песни…
Так вот, соловейко наконец умолк.
И все то, что сталось после, сталось по вине того самого соловья, по причине особливого упрямства его подруги, — и повернуло судьбу ковалика на совсем иной, неожиданный и нелегкий житейский путь.
Однако не будем забегать вперед, ибо там, ибо там…
Случилось там вот что…
Когда соловейко внезапно умолк, Ярина Подолянка, малость повременив, выглянула в сад, словно кого-то дожидаясь, и уж хотела, видно, закрыть окно, если б… для самого себя неожиданно… если б не подал голос Михайлик.
Как это случилось, он того и сам уразуметь не мог.
Когда Ярина Подолянка уже взялась было за раму окна, Михайлик, как богу, молился невидимому ночному певуну:
«Щелкни, ну щелкни!»
И нечаянно щелкнул сам.
Потом еще раз.
И еще…
И уже не мог остановиться.
Не мог, да и не хотел, ибо Ярина, вновь услышав трели соловья, окна не прикрыла, затем что начал он петь так обольстительно, как еще никогда и не слыхивала этого панна где-нибудь в Италии или Голландии, она даже на подоконник села, про все на свете позабыв, а потом и ноги свесила, а потом, не сознавая, что делает, как сноброд-лунатик, спустилась по стене и, словно по зову судьбы, очутилась в вишневом саду и пошла далее, подкрадываясь к зарослям бузины, где заливался соловушкой обезумевший парубок.
Михайлик, щелкая соловьем, уже и глаза закрыл, словно птица, вот и не приметил, как панна Ярина спустилась в сад.
Щелкал и щелкал.
Песня его была крута в коленцах, то быстрых, то печальных, то радостных, то прерывистых, а то похожих на чистый голос пастушьей свирели, а самым чарующим было, кажись, молчание меж коленцами, потому что без тех передышек нельзя было бы оценить и понять всей красы этой песня, не замирало бы сердце в ожидании: что ж прозвучит в последующий миг?
Почин или запевка?
Щелканье или пение?
Цоканье или бульканье? Трели или кликанье? Раскаты или плеканье? Лешего дудка или свист?
Михайлик и сам не знал, как это все называется, он только повторял коленца, слышанные сегодня у соловьев, но люди умные могли б насчитать десятка три перемен и строф, а кто почувствительней — мог распознать в том пении большое и сильное сердце влюбленного певца.
Закрыв глаза, Михайлик из самого сердца выщелкивал коленце за коленцем, вызывая из окна желанную королевну, еще и не зная, что она уже тут, возле куста бузины, за коим сладко заливался парубок, тихо крадется, ведомая вперед желанием приблизиться к волшебному певцу и сдерживаемая боязнью его испугать, оборвать песню. Сдерживаемая каким-то неясным предчувствием…
Несколько разбуженных страстью Михайлика соловушек, уже усталых и умиротворенных милостями своих соловьих, тоже подали голос и снова принялись за коленца, старые, опытные соловьи, коих заставляли петь только две силы — любовь и ревность, только соперничество из-за любимой серенькой пташечки, только желание поразить своим искусством и силой чувства еще свободное сердце какой-нибудь незаметной и немой соловьихи, его будущей сварливой и занозистой подруги, которая…
И влюбленные соловьи ошалели, глупые, ослепленные самым сильным, самым чистым и самым безрассудным чувством, ибо никогда не думают они, горемычные, о будущем.
Не думал ни о чем и Михайлик, и совсем не потому не думал, что понимал всю тщетность своих притязаний на племянницу отца Мельхиседека — безрассудных притязаний бездомного голодранца, — нет, нет, в тот час он ни о чем таком не думал, а просто пел, побуждаемый единственным желанием — задержать Ярину у окна, и пел, и щелкал, и свистал, и булькал, и рассыпался трелями, как вдруг услышал рядом с собой ее удивленный голос:
— Так это ты, мамин сынок?
В этом восклицании не было ни особенного удивления, ни заносчивости, что звучали в ее голосе поутру, ни укора или гнева.
Панна сразу узнала в соловейке молодого наглеца, что сватался к ней утром.
Она, при свете месяца, без малейшего удивления оглядела новую козацкую одежду, которая была к лицу этому парубку, увидела и чубик, подстриженный, подбритый, закрученный на запорожский лад, увидела и огонь его очей, сверкающих и диковатых, и вдруг спросила:
— А зачем ты, козаче, ходишь босиком? — И прыснула, словно это была не панна, воспитанная в чопорной Европе, а здешняя сельская девчонка.
— Ты ж, девка, и сама не обута! — не без оснований заметил панне Михайлик.
Ярина глянула на свои босые ножки, белевшие в сиянии луны, и смутилась малость, потому что выскочила как была, прямо с постели.
Смутился и наш Михайлик, разумеется.
Вот так они и стояли босиком.
Некоторое время друг друга разглядывали.
Потом лишь панна Ярина удивленно спросила:
— Как же тебя собаки не порвали?
— Мама говорила мне, что на влюбленных собаки не брешут, — просто отвечал Кохайлик.
— А ты разве… — начала было Ярина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
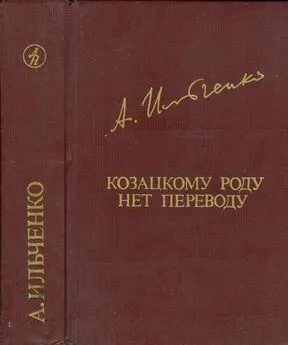
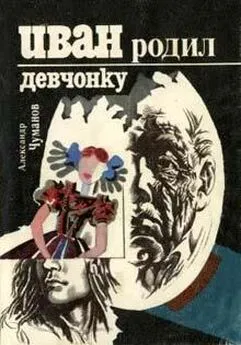

![Александр Пивко - Последний из рода Корто [litres]](/books/1080639/aleksandr-pivko-poslednij-iz-roda-korto-litres.webp)