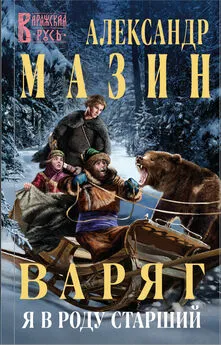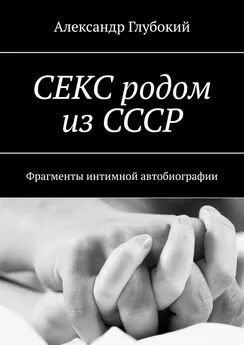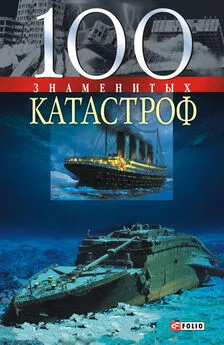Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Название:Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Ильченко - Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица краткое содержание
Это лирико-юмористический роман о веселых и печальных приключениях Козака Мамая, запорожца, лукавого философа, насмешника и чародея, который «прожил на свете триста — четыреста лет и, возможно, живет где-то и теперь». События развертываются во второй половине XVII века на Украине и в Москве. Комедийные ситуации и характеры, украинский юмор, острое козацкое словцо и народная мудрость почерпнуты писателем из неиссякаемых фольклорных источников, которые и помогают автору весьма рельефно воплотить типические черты украинского национального характера.
Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Шапка-то еще когда удерет, а ты уже удираешь… Куда ж ты?
— Недалечко… Я сейчас! — И Климко скрылся за подмостками, а представление пока шло далее на жестах, на ужимках, без единого слова.
Оставшись наедине со своей шапкой и своей смертью (они шевелились да возились в мешке и под макитрой), Стецько развязал мяукающий мешок, и купленный котик спокойненько удрал, а затем что податься в плотной толпе было некуда, он прыгнул на виселицу, которая осталась на помосте, и оттуда шипел на глупую рожу Стецька, что в сей миг могла не рассмешить разве только рыжего котика, ибо на базаре уже хохотали даже лошади с жеребятами, даже ослы хохотали, хотя и трудно теперь поверить: как это те лицедеи, не будучи членами Театрального общества, могли что-либо путное создать на сцене?
Итак, там хохотали все, кроме разве невозмутимых немецких купцов, кои, не смысля ни слова, не могли уразуметь, что же там происходит: не сошла ли с ума вся толпа?
Не смеялся и Михайлик, ибо все в жизни воспринимал взаправду, ни в чем не видя смешной стороны, даже на вкус не испробовав — что такое смех.
Этот порок свой коваль хорошо знал.
Он, бывало, даже просил в кузнице ковалей, еще там, дома, в Стародупке:
— Рассмешите меня!
Однако никому сие не удавалось, ибо казалось Михайлику, будто ему совсем не смешно, хоть сам он ненароком мог легко рассмешить любого.
А то, бывало, просил парубков:
— Рассердите меня!
Но и рассердить его доселе никто не сумел, и Явдоха этим печалилась, ибо, как говорится в народе: добрый — дураку брат.
Да и сам он, тот чудной хлопец, терзался этим, ему казалось, что и с ворогом он будет таким же добреньким, и коваль стыдился в себе этой девичьей доброты.
А то еще просил:
— Напугайте меня!
Но и напугать его никто не умел, ибо казалось, ничто хлопца не страшит, а сам он любого мог напугать до смерти.
Он знал эти свои пороки и сокрушался о том, что он — чурбан бесчувственный, с холодным сердцем, и несмелый он, и увалень, и ни на что не гож, и застенчивый, и боязливый, — и парубок не любил себя за те изъяны и, не веря себе, всегда держался матинки, боялся ногой ступить без любимой и милой мамы, которая была для него во всем примером: и умна, и смела, и трудолюбива, и проворна, и ко всему внимательна.
Смех смехом, а она, Явдоха, и ныне ко всему приглядывалась и все видела, и ничто ее не удивляло, даже и то, что все здесь, пока Стецько возился с рыжим котом, начали складывать на подводу возле подмостков свои доброхотные даяния — кто чем богат, а то и деньги даже, о коих так прозрачно намекал, зазывая базар на представление, громогласный смехотворец Тимош Прудивус.
А сам он, сей долговязый Климко-Прудивус, скрывшись между тем за подмостками, уже вынырнул с другой стороны, скорехонько перерядившись в козака и застегивая на ходу напяленный на голое тело старенький красный жупан, взглядом отыскивая, куда бы девать снятые лохмотья, чтоб освободить руки и прицепить саблю, что торчала у него под мышкой… Лукавые мысли Климка ясно проступали на выразительном лице, и каждое движение его души освещало весь облик базарного вертопляса, что, видимо, посвятил себя служению народу in saecula saeculorum, то есть на веки вечные.
Пока Стецько не заметил его возвращения, Климко швырнул, не глядя, старую одежонку на здоровенную макитру, под которой томилась панна Смерть, еще и торчком поставил на своих лохмотьях ветром подбитую шапку-бирку, и все это улеглось и упало так, что можно было подумать, словно то совсем и не макитра, а сам бедняга Климко сел на землю, повернувшись спиной к зрителям.
Скоренько управившись, Климко выхватил саблю и шагнул к Стецьку, скорчив такую рожу, что вельможный недоумок даже не узнал своего работника, наделившего его рыжим котом в мешке, тем, что до сих пор сидел на верхушке виселицы Оникия Бевзя.
А чтобы пан все-таки не узнал его, болтливый Клим заговорил с ним не по-людски, а стихами:
Я запорожець, воïн справний,
Я лицар всьому світу славний,
Бо воріженьків подолав:
Усім, хто ліз до мо́ï хати,
Заступнице пречиста мати,
Я добрих духопелів дав…
3 самою Смертю хочу стати
До бою,—
Зброю зрихтував!
Якби придибала вона,
Завдав би ïй прочухана!
Бас Прудивуса гремел над мирославским базаром, и все его слушали, хоть и говорил лицедей виршами, как в ту пору, к великому сожалению, в большинстве на представлениях велось, хоть, правда, многословные стихи на подмостках — ни тогда, ни теперь не радовали и не радуют зрителей и лицедеев, опричь разве тех чудесных случаев, когда звучат со сцены трепетные поэтические строфы Шекспира, Пушкина, Ростана или Леси Украинки, — хоть, может, это мне только кажется, ибо множество наших актеров утратило ныне уменье читать на сцене стихи, ибо не умел того даже великий Бучма.
Вот так и вирши, коими нежданно (c кем беды не бывает!) заговорил Климко, как в большинстве своем вирши в театре, были велеречивы и нескладны, и Пришейкобылехвост аж глаза вытаращил, услышав рифмы в неизменно прозаических устах Прудивуса:
Ішов паночок з міста,
За ним діво́чок триста…
За ним?
За ним?
За ним?!
— Та ні, повів ïх Клим.
— А панночка ж яка
Лишилась для Стецька?
Хоть далее, не выдержав в разговоре со зрителем даже ни с чем не сравнимого наслаждения от собственных виршей, Прудивус ненароком запел:
Коханням сердце — вщерть,
А панна ж тая — Сме-е-рть!..
И умолк, будто сам испугался своего иерихонского гласа, а пан Стецько осторожно спросил:
— А где же тот распроклятый Климко? Удрал?
— А вот он! — И черт лукавый кивнул на макитру, сокрытую под Климковым драньем. — Сидя заснул. А ты? — И он подал ему палку. — Держи!
— Зачем?
И Климко снова заговорил не по-людски:
Візьми отсю пали́цю
В свою міцну правицю
Та й бий того мазницю,
Проклятого п'яницю,
Що збув тобі лисицю,
Щоб крівцею зросив він
Усю отсю травицю…
Трах, бах, тарабах,
Лупцюй хама по губах!
Когда ж придурковатый пан Степан, схватив дубинку, ахнул по Климковым лохмотьям, под которыми стояла макитра, хрупкая глиняная посудина, как о том и упреждала дочь гончара, не выдержала и рассыпалась на мелкие черепки.
И тут же, страшно сказать, грохнул взрыв.
Все заволокло дымом.
Зрители отшатнулись от помоста.
Закашляли.
Зачихали.
А когда развеялся дым, потрясенные зрители увидели…
Что ж они там увидели?
Там за лугами — дымы столбами?
Нет.
Ветер повевает, дымок разгоняет, ну, а в том дымочке ласточка порхает?
Какая там ласточка!
…Смерть, а не ласточка, та самая панна, что наконец высвободилась из-под макитры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
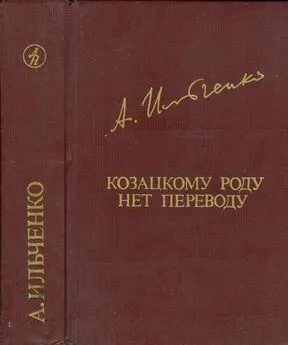
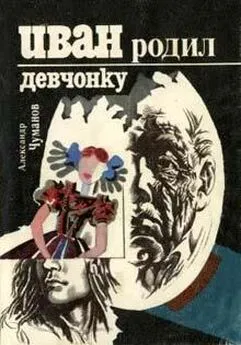

![Александр Пивко - Последний из рода Корто [litres]](/books/1080639/aleksandr-pivko-poslednij-iz-roda-korto-litres.webp)