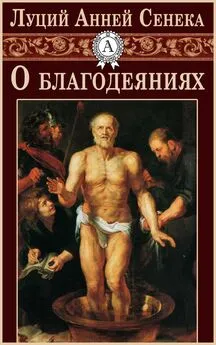Луций Сабин - Письма к Луцию. Об оружии и эросе
- Название:Письма к Луцию. Об оружии и эросе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91419-423-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Луций Сабин - Письма к Луцию. Об оружии и эросе краткое содержание
Сборник писем к одному из наиболее выдающихся деятелей поздней Римской республики Луцию Лицинию Лукуллу представляет собой своего рода эпистолярный роман, действия происходят на фоне таких ярких событий конца 70-х годов I века до н. э., как восстание Спартака, скандальное правление Гая Верреса на Сицилии и третья Митридатова война. Автор обращается к событиям предшествующих десятилетий и к целому ряду явлений жизни античного мира (в особенности культурной). Сборник публикуется под условным названием «Об оружии и эросе», которое указывает на принцип подборки писем и их основную тематику — исследование о гладиаторском искусстве и рассуждения об эросе.
Письма к Луцию. Об оружии и эросе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Четырнадцать лет назад», — пишет в одном из не вошедших в настоящий сборник «Писем» Луций Сабин, — «в такой же прекрасный весенний день, в мартовские календы, мы взяли Афины [6] Речь идет о взятии Афин Суллой 1 марта 86 года до н. э. во время Первой Митридатовой войны. Упоминания об этих событиях содержатся также в Письме XII.
. Может быть, даже лучше, что с первым дуновением Фавония ты оправился в Египет и не видел, сколько прекрасных творений рук и мысли человеческой погибло тогда: зрелище разрушенного города Перикла удручающе подействовало бы на твою мягкую, чувствительную натуру. А я пошел тогда в рощу Академа. Все деревья там были начисто вырублены по приказу Суллы, равно как и все деревья в Ликее: чтобы вести осаду Акрополя, нужна была древесина. Такова неумолимость войны и неумолимость истории. Опечаленный, искал я алтарь Дружбы [7] Этому алтарю посвящено стихотворение Аристотеля (фрагмент 146 Ross = Олимпиодор . Комментарии к «Горгию» Платона, pp. 214, 13–215, II р. 106).
, на который приносили жертвы Сократ и Платон, и еще больше опечалился, не найдя даже следов этого алтаря. А сейчас эта печаль вызывает у меня улыбку. Не нужно искать каменный алтарь Дружбы: алтарь Дружбы пребывает в наших сердцах, Луций».
Уже сам тон «Писем» указывает, что этих двух людей с одним именем объединяло почти полное взаимопонимание. Иногда создается впечатление, что речь идет об одном и том же лице, что Письма Луция к Луцию — это Письма к самому себе. Пожалуй, едва ли не единственное, что разделяет эти две личности, — это их жизнеотношение, точнее способ и степень их соприкосновения с окружающей жизнью, с судьбами Рима. Степень этого соприкосновения была, на первый взгляд, совершенно противоположной: с одной стороны это — совершенный уход в свою личную жизнь и в прошлое Рима (в археологию в античном смысле этого слова), то, что именовалось по-гречески λάθε βιώσας «живи неприметно» (этический идеал эпикурейцев), с другой стороны — это самая динамичная, самая непосредственная причастность к славе нынешнего дня Рима, к славе в самом блестящем, самом изысканном ее проявлении. И тем не менее, мы не случайно оговорились: «на первый взгляд». Ибо, несмотря на весь блеск своей славы тот Луций, который был причастен истории в самом прямом смысле и был одним из творцов истории, Луций Лициний Лукулл, сколь парадоксально это ни звучит, тоже выглядит последователем λάθε βιώσας на фоне яростной, остервенелой борьбы за первенство , сотрясавшей Римскую Республику в последние десятилетия ее существования. Мы имеем в виду прежде всего его контраст исполинским фигурам первого триумвирата — Цезарю, Помпею и Крассу, разрушительная мощь которых до поры до времени словно нейтрализовалась по закону некоего политико-геометрического равнодействия и равновесия. Кстати, именно Красс, получивший от современников прозвище Богатый и наиболее контрастный Лукуллу в смысле «богатства», оказался наиболее слабым звеном в этом тройственном сочетании: он пал жертвой своей жажды славы и наживы, когда попытался повторить знаменитый Восточный поход Лукулла, нарушив совершенно изысканное чувство меры Лукулла, которое тоже сродни (!) λάθε βιώσας , несмотря на ослепительный ореол военных подвигов и роскоши, окружавших его имя. Это чувство меры, эту особую щепетильность и мягкость, словно противоречившие оставшемуся в веках показным «размаху», все это его оставшийся в полной исторической безвестности друг называет в своих Письмах изысканностью. Этой же изысканностью — изысканностью своих чувств и переживаний — обладал в высшей степени и другой Луций — Луций Сабин.
Еще в одном из «Писем к Лукуллу», не вошедших в сборник «Об оружии и эросе», другой Луций пишет:
«Мы были неразлучны с тобой, Луций, во всех наших действиях и во всех наших устремлениях, во всех наших чувствах и во всех наших помыслах, вплоть до того дня, когда женскому божеству, которое мы называем Фортуна, а греки Тиха, не заблагорассудилось вдруг предстать перед тобой. Ты удержал эту женщину, сумел овладеть ею и, возможно, весьма и весьма пришелся ей по вкусу своими мягкими и нежными ласками. Грубых мужланов, которым она тоже отдавалась, причем с громкими, порой душераздирающими страстными воплями, эта сверхженщина бросала довольно скоро и зачастую довольно для них болезненно, к тебе же она возвращалась всякий раз. Она не оставляла тебя своими самыми щедрыми и изощренными и, главное, постоянными ласками даже тогда, когда ее сотрясало вдруг желание удовлетворить на стороне свою похоть с какой-нибудь сволочью. Ты остановил это женское божество, явившееся на твоем пути, Луций, и сумел привязать его навсегда к себе, а, возможно, оно и само к тебе привязалось. Что же касается меня, то Фортуна вряд ли являлась на моем пути, разве что я попросту не заметил ее. Но если бы она явилась мне или — если угодно — если бы я заметил ее, то скорее всего поступил бы с ней так же, как поступал обычно с нравившимися мне женщинами — либо упился бы с ней бурной страстью и тут же бежал бы прочь без оглядки, либо благоговейно взирал бы на нее издали, наслаждаясь исходящим от нее очарованием. Увы, мне чужда твоя чуткая мягкость, Луций, чужда настолько, что я тут же ставлю под сомнение это увы».
При всей их близости Луций, который пишет, и Луций, которому пишут, не тождественны друг другу. Впрочем, alter ego и не предполагает полного тождества. Обратившись к одному из самых ярких сравнений Писем, можно было бы сказать, что оба Луция — тоже отражения друг друга в зеркале, которое подернуто патиной старины, патиной истории. Один из Луциев предпочел замкнуться в своей личной жизни, предпочел обратиться к прошлому. Другой решительно (хотя опять-таки изящно) вошел в настоящее, и именно поэтому остался в будущем — в истории. Иными словами, Луций, который пишет Письма, был бы тождествен Луцию, к которому обращены Письма, Луцию Лукуллу, если бы Судьбе было угодно сделать так, чтобы Луций Лукулл остался вне истории, строго соблюдая и в жизни принцип λάθε βιώσας , который он принимал теоретически.
Все выше сказанное о подобии двух Луциев вызывает в памяти еще одно сопоставление, уже из области римской литературы: это Луций, который пишет не Луцию, а о Луции. Мы имеем в виду совершенно замечательного автора более поздней эпохи, одного из самых эротических писателей Рима и всей мировой литературы. Это — Луций Апулей, описывающий приключения некоего Луция и смотрящий на мир глазами этого Луция, к тому же превращенного в осла (не случайно, что самого Апулея обвиняли в магии) [8] Кстати, именно красивого, высоко эстетического Апулея советует почитать перед смертью тем, кто решил приятно уйти из жизни по собственной воле, замечательный переводчик Апулея на русский язык и не менее замечательный русский поэт Михаил Кузмин. А чтобы замкнуть до конца этот смысловой круг, упомянем, что наивные египетские песенки, которые читал в Риме другой Луций (Письмо X), удивительно напоминают одно из стихотворений «Александрийских песен» Михаила Кузмина.
.
Интервал:
Закладка: