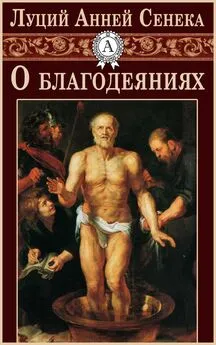Луций Сабин - Письма к Луцию. Об оружии и эросе
- Название:Письма к Луцию. Об оружии и эросе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91419-423-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Луций Сабин - Письма к Луцию. Об оружии и эросе краткое содержание
Сборник писем к одному из наиболее выдающихся деятелей поздней Римской республики Луцию Лицинию Лукуллу представляет собой своего рода эпистолярный роман, действия происходят на фоне таких ярких событий конца 70-х годов I века до н. э., как восстание Спартака, скандальное правление Гая Верреса на Сицилии и третья Митридатова война. Автор обращается к событиям предшествующих десятилетий и к целому ряду явлений жизни античного мира (в особенности культурной). Сборник публикуется под условным названием «Об оружии и эросе», которое указывает на принцип подборки писем и их основную тематику — исследование о гладиаторском искусстве и рассуждения об эросе.
Письма к Луцию. Об оружии и эросе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Затем меня разбудил приход Флавии. Она склонилась надо мной в короткой тунике и сказала:
«Тебе нужно уходить».
Я поднялся с ложа и хотел поцеловать ее, но она отстранилась. В ней уже было не замешательство, а упрек самой себе.
«Теперь я совершенно уверена, что всякий раз, оказавшись наедине друг с другом, мы будем совокупляться безудержно, как сумасшедшие».
Я стал было уверять ее, что мы сможем сдерживаться, что я смогу сдерживаться, но тут же понял, что уверения эти — глупость. Не потому, что они были ложью, а потому что они были глупостью.
Я еще раз попытался поцеловать ее, но она снова уклонилась, на этот раз еще более холодно.
Я знал из ее же слов, что, переспав с множеством мужчин, она испытывала теперь угрызения совести к своему нынешнему греку.
Мне вспомнилось ее уверенное: «Конечно», сказанное перед нашей постельной борьбой, через которое она видела нас вместе, вспомнилось столь же искреннее и продуманное признание, что она могла бы полюбить меня, то есть найти во мне ту любовь, о которой только мечтала и которая дана далеко не всем смертным и не во всякой жизни, — любовь, о которой писал Платон. Она, не читавшая Платона…
Я спросил:
— Скажи, а этот, твой грек, который «очень сильно любит тебя», любит ли он тебя такую, какова ты есть, любит ли он тебя любовью, о которой ты мечтала.
Я был уверен, что услышу: «Нет». Мне хотелось завоевать ее, и поэтому я задал такой вопрос.
Она ответила:
— Не знаю.
Это прозвучало как: «Нет». Впрочем, иначе и быть не могло. Потому что, если бы она произнесла: «Нет», ей следовало бы уйти от своего грека. На него она еще надеялась, я же вызвал в ней замешательство. Он был проверен, я появился слишком неожиданно. Он чувствовал себя прекрасно в своем сицилийском захолустье, я думал о Риме и мечтал об Александрии.
Мне захотелось пасть к ее ногам и благодарить за искренность. Я сдержался, чтобы горячая благодарность моя не показалась попыткой мольбы, попыткой переубедить ее.
Я ушел с чувством горечи из-за ее холодности.
Долго мучился я вопросом (мучился, но и испытывал от этого тихую радость отдохновения): может ли любовь быть без возвышающей страсти?
А потом я понял, что это — самая чистая и верная форма любви: не устремленность Платона с мечтой о встрече, но сознание, что любовь твоя осталась неразделенной. И при этом знать, что возлюбленная твоя восхищается тобой, желает полюбить, может быть, даже думает, что любит тебя, но, в действительности, полюбит только тогда, когда ты уйдешь от нее, когда останешься в ее воображении, когда станешь ее воображением — более реальным, чем сама реальность.
Через два дня после этого, отправляясь в загородное имение к своему греку , Флавия пожелала встретиться со мной.
Во время нашей встречи она сказала, что прочла мое старое, легко и несколько небрежно, впопыхах написанное изыскание «О достопримечательностях Эолийской земли», и что оно ей очень понравилось. Она, действительно, прочла это изыскание, и оно, действительно, ей очень понравилось: это я понял по ее вполне уместным замечаниям. Ты помнишь, что это небольшое изыскание было написано во время нашего первого пребывания в Эолиде после взятия Митилены, когда была еще очень свежа память о резне устроенной Митридатом римлянам и италикам в Азии, и поэтому я, возможно, слишком откровенно прошелся по грекам в грязных сапогах. Среди моих вполне серьезных рассуждений Флавия уловила оттенки насмешки, чего я, признаться, от нее не ожидал. Мне было приятно, что мое изыскание ей понравилось, а еще более приятно было мне от того, что прежде, чем ознакомиться с моим изысканием, она успела дважды и притом весьма основательно ознакомиться с моим телом: она не льстила мне.
Прощаясь, уже посадив ее в повозку, я коснулся ее плеча, а она в ответ коснулась моего запястья. Это было не менее восхитительно, чем бурные ласки двух наших ночей.
Когда она вернулась от своего грека, я снова приехал в Сегесту и снова встретился с ней.
Я говорил ей много чего, болтал без умолку. Я говорил о самых сокровенных наших ласках и вперемежку с ними — о воспоминаниях моего детства: как мне пытались объяснить, что такое горизонт, пытались втолковать что-то вроде понятия о бесконечном. Меня спросили, вижу ли я другой берег моря. Я уже знал, знал из сказок, что другой берег у моря есть, и что этот берег — Африка. Я вгляделся в морскую даль, вгляделся на совесть, от души, почти до боли в глазах, и ответил: «Да, я вижу берег!». «У моря другого берега нет», — ответили мне разочарованно и немного раздраженно.
А мне стало горько: я прекрасно видел другой берег. Мохнатые, с густой бахромой пальмы качали своими распластанными либо рубленными, наподобие сардских мечей, либо изящно прорезанными, наподобие сетчатых серег, ветвями. Среди ветвей я видел обезьян с совершенно круглыми головами, с полукруглыми ушами и с хвостами-полубубликами. Я видел даже загадочных камелопардов [263] Камелопард ( доcл. «верблюдо-пантера») — жираф.
(странно: ведь камелопардов я впервые видел гораздо позже — в зверинце Птолемея) и, кажется, слонов. Впрочем, насчет слонов не уверен: это могли быть очертания африканских гор — ведь то, что я видел, было так далеко.
Мне было горько: я совершенно очевидно видел это, но видел это только я. Мне было горько-сладостно: я видел это, даже если видел это только я. Кстати, говорят, что отсюда, из Лилибея в ясную погоду виден Карфаген, а какой-то человек, обладающий особо острым зрением, даже подсчитывал выходящие из карфагенской гавани корабли. Я верю в это, хотя ни Карфагена, ни кораблей не вижу, а в детстве видел Африку с берегов Лация.
Увы! «Карфаген должен быть разрушен». Я ненавижу эти слова. О, как понятны мне слезы Сципиона на развалинах Карфагена и твои слезы на развалинах Амиса! Какое смятение вызывала всегда в душе моей участь Трои. Мы, племя Трои, вечно будем переживать ее пожар, а греки — вечно расплачиваться за этот пожар.
Как-то, тоже в детстве, я смотрел одну из драм Ливия Андроника о падении Трои. Когда в час ложной победы на сцене появились вдруг хмельные троянские стражники и запели о «полях, где восходит солнце», о «равнинах Элисийских», я почувствовал, что есть обман блаженства, не-существуемость блаженства. Исчез другой берег моря, тот, «не наш» берег моря, который я назвал Африкой. Слезы хлынули у меня из глаз, я рыдал навзрыд, и грудь моя разрывалась, я чуть не задохнулся от рыданий. Мне было тринадцать лет. После этого я не плакал и никогда больше не заплачу.
И потому мы стараемся убить Троянского коня — ежегодно приносим на Марсовом поле в жертву нашему богу-предку, отцу Ромула и Рема, октябрьского коня , пытаясь удержать кровожадное чудовище истории в его логове.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: