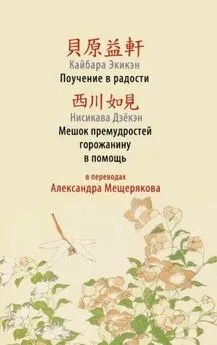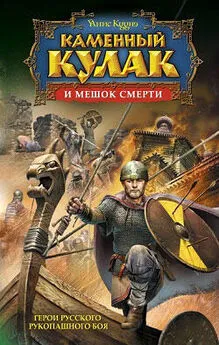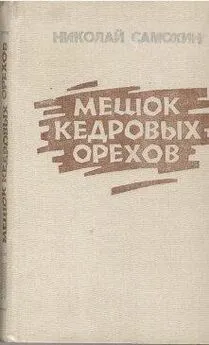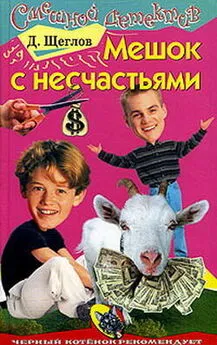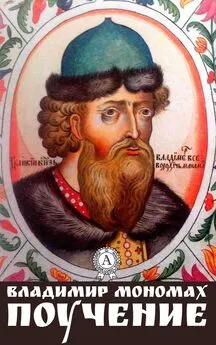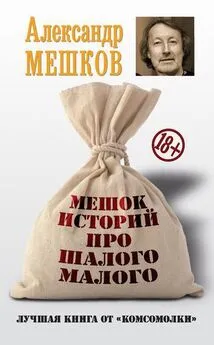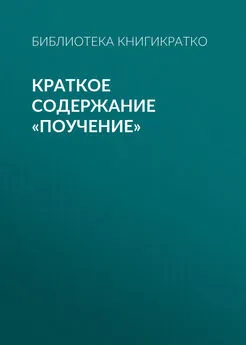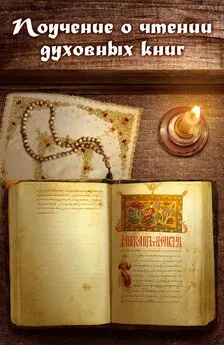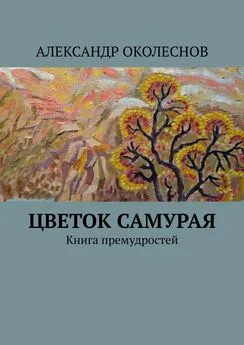Экикэн Кайбара - Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь
- Название:Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гиперион
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Экикэн Кайбара - Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь краткое содержание
Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину в помощь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сочинения авторов конфуцианского круга были, разумеется, известны в Японии, но они оставались достоянием сравнительно узкого круга книжников. Буддийские тексты имели более широкое распространение. Хотя японская элита жила с оглядкой на Китай, но те гонения на буддизм, которые предпринимаются в Китае в IX в., не имели сколько-нибудь существенного влияния на ситуацию в Японии. Неоконфуцианство, расцветшее в Китае при династии Сун (960—1279), тоже не произвело в Японии переворота в умах, а в период Муромати (1392—1573) поклонение Конфуцию вообще прекратилось. В это время намного большее впечатление произвёл заимствованный из Китая извод буддизма под названием Чань ( яп. Дзэн), который вошёл составной частью в идеологический комплекс сёгунатов Камакура (1192—1333) и Муромати. Что до самого Китая, то это учение имело там не так мало последователей, но оставалось всё равно периферийным. Конфуцианские ценности и образы, наряду с буддизмом и синто, входили в качестве важной составной части в различные средневековые сочинения, но конфуцианство не образовывало самостоятельного и институализированного течения мысли, которая питается исключительно из самой себя [9] Показательный пример представляет собой культ покровителя китайской учёности Сугавара Митидзанэ (845—903), в формировании образа которого участвовали концепты не только собственно конфуцианские, но также синтоистские и буддийские. См.: Федянина В.А. Покровитель словесности и воплощение бодхисаттвы. Сугавара Митидзанэ и ранняя история культа Тэндзин (IX-XII вв.).— М.: КРУГЪ, 2014. О проблеме соотношения «религиозного» и «светского» (в частности, конфуцианского) в средневековой словесности см.: Трубникова Н.Н. «Сборник наставлений в десяти разделах» («Дзиккинсё:») и вопрос о светской мысли в эпоху Камакура. История и культура традиционной Японии 8. Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LVII.— М.: Российский государственный гуманитарный университет.— СПб.: Гиперион, 2015. С. 111-122; Трубникова Н.Н. Дети и родители в собрании «Песка и камней». История и культура традиционной Японии 7. Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LII.— М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2014. С. 169-186. О совмещении дара буддийского проповедника и конфуцианской учёности в древней Японии см.: Робин С.А. Буддийские мотивы и жизнеописания монахов в антологии «Кайфусо». История и культура традиционной Японии 6. Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LI.— М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2013. С. 48-68.
.
Ситуация с конфуцианством в Японии решительно меняется с приходом к власти сёгунов Токугава. Сёгунат поощряет учёных-конфуцианцев, уже первый сёгун Иэясу в 1605 г. берёт на службу неоконфуцианца Хаяси Радзан (1583—1657). Он занимался, в частности, составлением дипломатических и законодательных документов. Радзан был не единственным учёным мужем при Иэясу — в число его советников входили и дзэнские монахи, но с течением времени их влиятельность существенно уменьшилась. В 1630 г. Радзан открыл школу (Сёхэйдзака гакумондзё), которая под патронажем сёгуната и ректорством потомков самого Радзана превратилась в конце концов в подобие придворного учебного заведения (с 1797 г. управлялась непосредственно сёгунатом), в значительной степени определявшего содержание образовательного процесса в стране.
В период Токугава конфуцианцы выступают в качестве уважаемых учителей в княжеских школах, они являются наставниками сыновей в самых благородных семействах, формируя тот язык, с помощью которого власть описывала социальный и природный мир, разговаривала с народом. Конфуцианские учёные служат также советниками правительства и князей, озабоченных посюсторонними управленческими нуждами, прежде всего поддержанием сложившегося социально-государственного порядка. Эта посюсторонность объединяла конфуцианских учёных всех направлений, и почти все они в конечном итоге служили опорой режима Токугава, ибо культивировали семейные и государственные ценности, но их доктринальные разногласия всё равно представлялись режиму источником хаоса, различные интерпретации классических текстов казались нарушением порядка, так что в конце XVIII в. любые конфуцианские школы запрещаются, и только Чжусианство (неоконфуцианство) превращается в эквивалент государственной идеологии [10] Robert L. Backus. The Motivation of Confucian Orthodoxy in Tokugawa Japan.— Harvard Journal of Asiatic Studies. Vol. 39. №. 2 (Dec., 1979). P. 275-338. В этой статье живо показано, насколько был раздражён существовавшим интеллектуальным разнообразием Мацудайра Саданобу (1758—1829), один из основных сторонников ортодоксального чжусианства. Похожее эмоциональное недоверие к многообразию фиксируется и во времена японского тоталитаризма в 30-х гг. XX в. (см.: Мещеряков А.Н. Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма.— М.: Наталис, 2009). При этом следует, разумеется, помнить, что властная система Токугава допускала намного большее разномыслие, чем развитые информационные и властные технологии XX в. Об ограниченном влиянии запрета на «ереси» конфуцианского толка см.: Anna Beerens. Friends, Acquaintances, Pupils, and Patrons. Japanese intellectual life in the late eighteens century: a prosopographical approach. Leiden University Press, 2006. P. 280-287.
. Запрет на иные течения конфуцианства выполнялся не окончательно строго, но, тем не менее, картина интеллектуальной жизни сильно потеряла в живости. Поборники «учения древних знаков» (кобундзигаку), которые взывали к непосредственному обращению к классическим конфуцианским текстам, не опосредованным комментаторской традицией чжусианцев, имели гораздо меньше возможностей для реализации своих идей и чаяний.
Запреты сёгуната, поощрение ортодоксии оказывало существенное влияние на судьбу представителей тех или иных конфуцианских школ. Однако для целей нашего исследования, имеющего в фокусе прежде всего поведенческое измерение человека, догматические нюансы не имеют первостепенного значения, ибо все японские конфуцианцы сходились на том, что поведение чаемого человека мирного времени выстраивается вокруг стержня под названием «долг»: долг перед родителями, детьми, родственниками, старшими по положению и возрасту. Этот человек существует в рамках жёсткого сословного деления, довольствуется своим статусом, сознательно ограничивает амбиции и потребности. Он существует не сам по себе, но только в сопряжении с социумом, с которым выстраивает гармоничные отношения. Во всех своих проявлениях такой человек придерживается умеренности и избегает крайностей — в эмоциях, материальном достатке, занятиях, желаниях, увлечениях, одежде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: