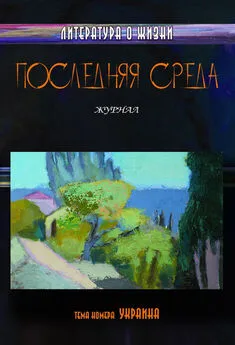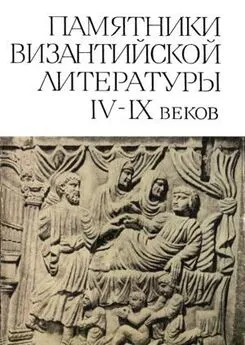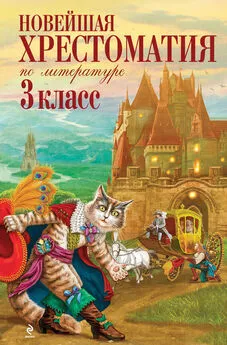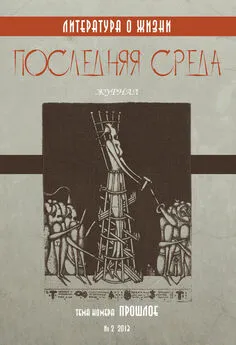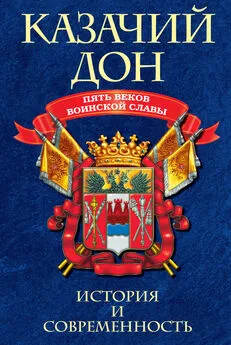Коллектив авторов - Памятники византийской литературы IV-IX веков
- Название:Памятники византийской литературы IV-IX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Наука»
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Памятники византийской литературы IV-IX веков краткое содержание
Ответственный редактор Л.А. Фрейберг.
Памятники византийской литературы IV-IX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
68. И вере, и благочестию Антония следует удивляться в высшей степени, ибо ни с отщепенцами мелетианами [16] Мелетиане — сторонники Мелетия, епископа г. Ликополя в Фиваиде (ум. в 326 г.); Мелетий был против возвращения в церковь лиц, отрекшихся от христианства во время гонения Диоклетиана. Первый Вселенский собор (325 г.) осудил мелетиан, но, тем не менее, они существовали до конца V в.
никогда не общался он, зная их давнее лукавство и отступничество, ни с манихеями [17] Манихеи — последователи религиозно-философского учения, возникшего в Персии в III в. н. э. (название этого учения происходит от имени его основоположника — перса Мани); из Персии оно быстро распространилось по Средней Азии, Сирии, Месопотамии, Египту, восточным областям Римской империи. Основу манихейства составляет учение о добром и злом началах, на которых, по представлению его проповедников, зиждется мир. Восприняв кое-что от христианства, манихейство в течение некоторого времени (IV–V) вв. соперничало с ним, но к VIII–XIII вв. прекратило свое существование.
или с другими еретиками не беседовал дружески, — разве только для вразумления их, чтобы обратились к благочестию. И сам Антоний так думал, и другим внушал, что дружба и беседа с ними — вред и погибель душе. Гнушался также арианской ересью и убеждал всякого не сближаться с арианами и не перенимать их вероломства. А пришедших к нему однажды каких-то ариан Антоний расспросил и, убедившись в их нечестии, прогнал с горы, сказав, что речи их хуже змеиного яда.
69. Однажды ариане распустили ложный слух, будто Антоний одинаковых с ними мыслей; он страшно на них разгневался; а потом по просьбе епископов и всей братии сошел с горы и, прибыв в Александрию, осудил ариан, сказав, что арианство — это последняя ересь и предтеча антихриста… [18] Гл. 70–73 повествует о чудесных исцелениях больных, совершенных Антонием, об обращении в христианство многих язычников и о начале спора Антония с языческими философами, которые решили посмеяться над Антонием, не знавшим грамоты.
74. Известно, что, когда после этого снова пришли к нему какие-то люди, которых греки считали мудрецами, и попросили рассказать о нашей вере во Христа (намеревались они начать рассуждение о проповеди божественного креста, чтобы посмеяться над ней), — Антоний, немного помедлив и сперва пожалев об их невежестве, сказал им через переводчика, прекрасно переводившего слова его:
«Что лучше: исповедовать крест или приписывать прелюбодейство и деторастление тем, кого вы называете богами? Ведь наше учение — это доказательство мужества и знак презрения к смерти; а ваше — страсть к распутству. Далее, что лучше? — говорить, что Слово божие неизменно, но, будучи одним и тем же, восприняло человеческую плоть ради спасения и блага людей, чтобы, приобщившись к роду человеческому, сделать людей сопричастными божественного и духовного естества или уподоблять божество бессловесным и, следовательно, почитать четвероногих животных, пресмыкающихся и человеческие изображения?.. [19] В гл. 75 Антоний продолжает спор с языческими философами, призывая их прочитать священные Писания.
76. Поведайте же и вы нам свое учение. Что можете сказать о бессловесных, кроме того, что они неразумны и свирепы? Если же, как слышу, захотите утверждать, будто все это говорится у вас притчами и похищение девы есть иносказание о земле [20] Согласно древнегреческому мифу, дочь финикийского царя Агенора Европу похитил Зевс, приняв образ быка.
, а хромой Гефест — об огне, Гера — о воздухе, Аполлон — о солнце, Артемида — о луне, Посейдон — о море, то самого бога вы вовсе не почитаете, но служите твари, а не всеобщему творцу — богу. Если подобные басни сложили вы по той причине, что тварь прекрасна, то вы должны были только удивляться тварям, а не обожествлять их, чтобы не оказывать созданному той почести, какая подобает создателю. В таком случае вы должны воздавать почесть не архитектору, а построенному им дому или не военачальнику, а воину. Итак, что вы скажете на это, чтобы мы знали, — достоин ли крест презрения?»
77. Поскольку те в замешательстве оглядывались по сторонам, Антоний, улыбнувшись, сказал еще через переводчика: «Хотя это ясно само собою с первого взгляда, однако раз вы опираетесь более на доказательства от разума и, владея этим искусством, требуете, чтобы и наше богочестие было не без доказательств от разума, то скажите мне прежде: каким образом достигается достоверное познание вещей и особенно — познание бога, — посредством доказательств от разума или посредством действенной веры? И что чему предшествует: действенная вера или доказательство от разума?»
Когда же они ответили, что действенная вера предшествует доказательству от разума и является достоверным познанием, Антоний сказал: «Вы правильно ответили, ибо вера возникает от душевного расположения, а диалектика от искусства ее создателей. Следовательно, в ком есть действенная вера, для того не необходимы, а скорее излишни доказательства от разума. Ибо то, что мы постигаем верою, вы пытаетесь утверждать разумом и часто не можете выразить словом понятное нам. Таким образом, действенная вера лучше и надежнее ваших хитроумных суждений…» [21] В гл. 78–80 оканчивается спор Антония с языческими философами; победителем из него выходит Антоний. Гл. 81–94 повествуют о возвращении Антония к уединенной жизни, о видениях, бывших ему под конец жизни, и о смерти Антония.
Василий Кесарийский
(около 330 г. — 1 января 379 г.)
Во второй половине IV в. признанным центром церковной политики церковной образованности на греческом Востоке империи становится каппадокийский кружок. Ядро кружка составляли Василий из Кесарии, его брат Григорий (впоследствии епископ Нисы) и его друг Григорий из Назианза.
Члены кружка отличались чрезвычайно высокой образованностью. В актуальную богословскую полемику они перенесли филигранные методы неоплатонической диалектики. Замечательно, что в сочинениях этих церковных деятелей даже не встречаются выражения вроде «наша вера» — вместо этого они неизменно говорят: «наша философия». Творчество каппадокийцев — это вершина усвоения языческой философской культуры христианской церковью. Поэтому отличное знание древней художественной литературы было в кружке само собой разумеющейся нормой.
Вождем кружка и первым церковным политиком эпохи стал Василий из Кесарии.
Василий был сыном ритора и с детства готовил себя к той же профессии. Первоначально он чувствовал себя по натуре мирским человеком, хотя уже с детства находился под влиянием своей сестры Макрины — ревностной христианки. Василий совершенствовался в лучших риторических школах Малой Азии, Константинополя, Афин. В Афинах он встретил Григория из Назианза; земляки и ровесники подружились на всю жизнь. Вернувшись на родину, Василий вел жизнь ритора, писал судебные речи. Все это оборвалось в результате психологического кризиса, обычного для людей этой эпохи: Василий принял христианство, объехал пустыни Египта и Сирии, чтобы на месте познакомиться с жизнью облюбовавших эти места анахоретов, потом сам создал в Малой Азии монашескую общину и наладил ее распорядок. Но монастырь был слишком узким поприщем для его организаторских способностей. Вскоре епископ Кесарии Евсевий привлекает его к управлению епархией, а после смерти Евсевия (в 370 г.) епископом становится сам Василий. Благодаря своему властному характеру, умению подбирать людей и влиять на них, хозяйской хватке и необычайной работоспособности он оттесняет на задний план светские власти города, застраивает пустыри и окраины Кесарии грандиозным комплексом благотворительных сооружений, Во все вмешивается и все упорядочивает. В то же время он становится фактическим диктатором ортодоксальной церковной партии на всем Востоке и видным деятелем в масштабах всей империи, импонируя своим союзникам и врагам жесткой целеустремленностью и отчетливым чувством реальности. Уже его современники дали ему прозвище «Великого»; впоследствии церковь, единство которой он вынес на своих плечах, включила его в число трех важнейших (вместе с Григорием Назианзином и Иоанном Златоустом).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: