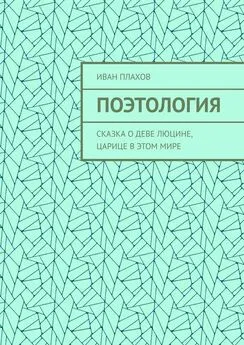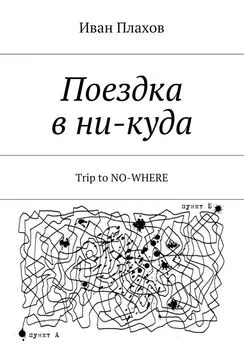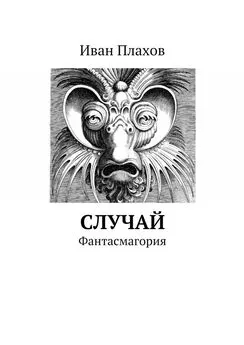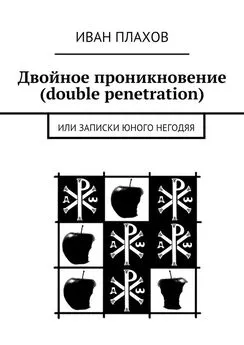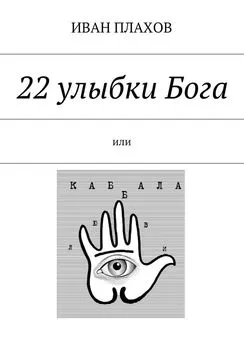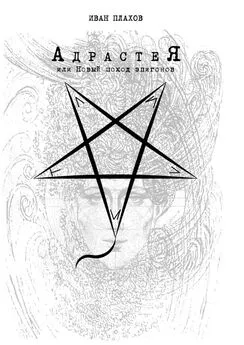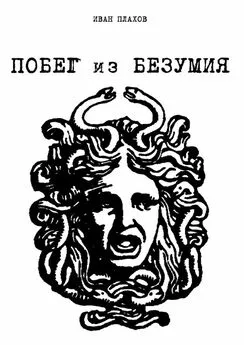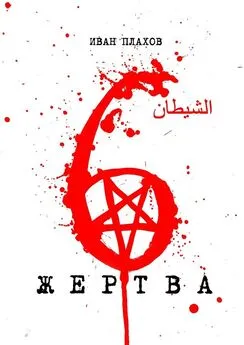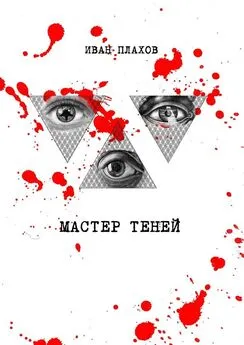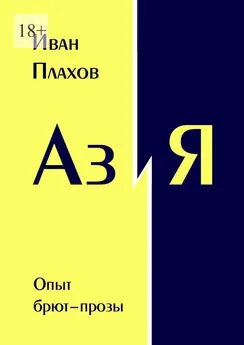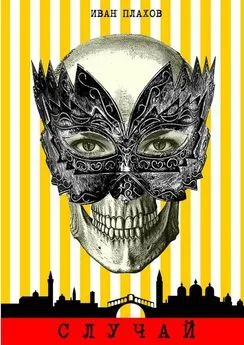Иван Плахов - Поэтология. Сказка о деве Люцине, царице в этом мире
- Название:Поэтология. Сказка о деве Люцине, царице в этом мире
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005575586
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Плахов - Поэтология. Сказка о деве Люцине, царице в этом мире краткое содержание
Поэтология. Сказка о деве Люцине, царице в этом мире - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэты – подражатели
«… все это в целом не что иное, как подражания»
Аристотель.
Философия, ревнуя поэзию к слову, постаралась осознать природу поэзии как вторичную, неподлинную, устами Аристотеля сформировав категорическое мнение о том, что:» – все это в целом не что иное, как подражания (копирования); различаются же они между собою трояко: или разными средствами подражания, или разными его предметами, или разными, нетождественными способами». Подражает же поэзия очевидным образом философии, т.е. науке о первичной природе слова, «пользуясь ритмом, словом (как звуком) и гармонией или раздельно, или вместе». Но так как не совсем было ясно, отчего же с некоторыми из людей случаются поэтические приступы, то Аристотель предположил, что подражание является частью психологической природы человека, на уровне рефлексов заложенная в его личность еще с детства: «Породили поэтическое искусство явным образом две причины, и обе естественные (т.е. природные). Ведь подражать присуще людям с детства: люди тем и отличаются от остальных существ, что склоннее всех к подражанию, и даже первые познания приобретают путем подражания, и результаты подражания всем доставляют удовольствие. И вот, так как подражание свойственно нам по природе не менее чем гармония и ритм, то с самого начала одаренные люди, постепенно развивая свои способности, породили из своих импровизаций поэзию». Последовательно развивая свою точку зрения, Аристотель установил, что «распалась же поэзия на два рода сообразно личному характеру поэтов… более важные из них подражали прекрасным делам подобных себе людей, а те, что попроще, – делам дурных людей». Поэтому трагедию и эпопею Аристотель считал «подражанием действию важному и законченному», в котором очевидно, по его мысли, должны быть всенепременно представлены люди благородные, а «комедия же есть подражание людям худшим, хотя и не во всей их подлости» и действовать в ней должна «некоторая ошибка и уродство, но безболезненное и безвредное». Правда, справедливости ради, нужно признать, что Аристотель не смог не констатировать, что «задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости». Формируя цель написания поэзии он проговаривается даже до того, что отводит ей роль того, что производит «посредством сострадания и страха очищение подобных страстей», т.к. понимает, что «ужасом приоткрывается Ничто» в связи с тем, что само «человеческое присутствие означает: выдвинуться в Ничто» (Хайдеггер).
Поэты – фальсификаторы истины
«А мы, – вопрошает поэт,
– должны ли мы
будем всегда находить поэзию
лишь по ту сторону истины?»
Метерлинк.
Любой, даже самый пристрастный почитатель поэзии, вынужден согласиться с тем, что то, о чем толкует нам поэзия, не имеет ничего общего с реальной жизнью, т.е. в любом подлинно поэтическом произведении по необходимости должен присутствовать вымысел : посредством ли сюжета, слова или описываемого чувства, – в противном случае данное словесное произведение не может быть воспринято как поэтическое. Поэт всегда вынужден брать истинное , т.е. действительное в своем бытие, и трансформировать его в некое иллюзорное , т.е. действенное в своем сознании, для того, чтобы получить поэтический результат. Собственно говоря, действие поэзии состоит в трансформации истинного в ложное посредством выворачивания действительности наизнанку, в процессе движения каковой от истинного к ложному и происходит магия преобразования слов, как знаков сущего, т.е. вещей, в слова, как символы инакосущего, т.е. идеи. «Да, всегда, везде и всюду будем находить мы поэзию не по ту сторону истины, ибо это невозможно, т.к. мы не знаем, где именно она обретается, а по сторону тех ничтожных повседневных истин, которые мелькают перед нами. Красота, которой мы наделяем некий момент нашей жизни, научает нас распознавать его действительную красоту и величие, открыть которые нелегко, ибо они находятся в определенных отношениях к законам и общим, вечным силам природы», утверждал Метерлинк, т.к. очевидным образом желание истины приводит человека к тому, что «мы срослись с ложью, с поэзией произвольной и нереальной и, за неимением лучшего, мы можем чувствовать упоение только в фальсифицированной истине».
Поэты-фантазеры
«Мы распознаем их (бесов)
на основании помыслов
и распознаем помыслы
на основании их предметов».
Св. Евагрий
«Это мнение о своей вдохновенности, называемое обычно особым внушением, очень часто возникает после какого-либо счастливого открытия ошибки в том, что общепризнано. Не зная или не припоминая, каким именно путем они дошли до этой частной истины (как они полагают, ибо очень часто наталкиваются на ложь), люди поклоняются самим себе, считая, что пользуются особой милостью всемогущего Бога, который открыл им эту истину- сверхъестественным путем – путем внушения. И так как при последовательном ряде человеческих мыслей в вещах, о которых люди думают, нельзя заметить ничего, кроме того, что они в чем-то сходны между собой, или чем-то различаются, или служат какой-то цели, то о тех людях, которые замечают сходства вещи, в случае если эти сходства таковы, что их редко замечают другие, мы говорим, что они обладают большим умом, под каковым в данном случае подразумевается большая фантазия.
В хороших поэмах, будь то эпические или драматические, точно так же в сонетах, эпиграммах и других пьесах требуются как суждение, так и фантазия, но фантазия должна больше выступать на первый план, так как эти роды поэзии нравятся своей экстравагантностью, но они не должны портить впечатления отсутствием рассудительности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: