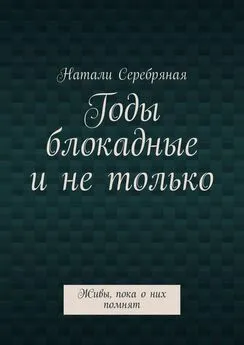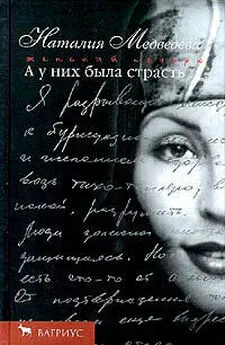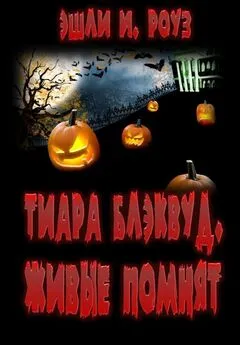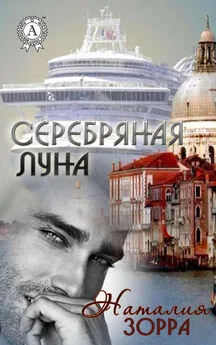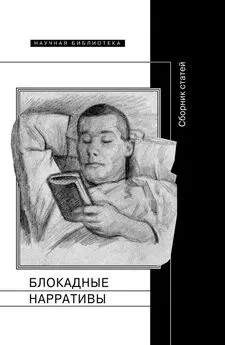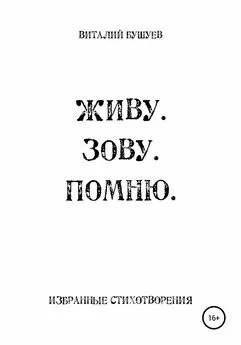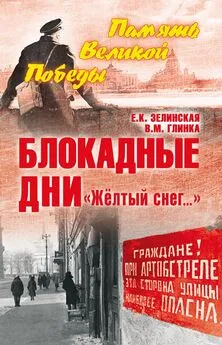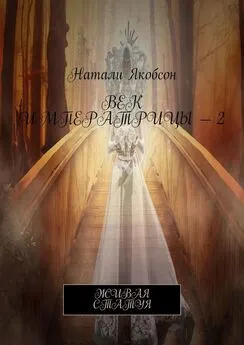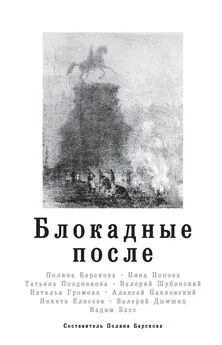Натали Серебряная - Годы блокадные и не только. Живы, пока о них помнят
- Название:Годы блокадные и не только. Живы, пока о них помнят
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449615299
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Натали Серебряная - Годы блокадные и не только. Живы, пока о них помнят краткое содержание
Годы блокадные и не только. Живы, пока о них помнят - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Потеряв родителей ещё в 12-летнем возрасте (революция не виновата), бабушка, будучи единственным ребёнком своих состоятельных родителей, да и рожденным через 15 лет вполне благополучного брака, имела 20000 серебром в банке Петербурга, кажется, на ВО, земли на котором когда-то раздавались бесплатно, была честно выдана замуж двоюродным дядей за «справного парня», сына мельника, уже в 17 лет, дядя ведь продал её родительский дом и вырученные деньги уже «спустил». Если бы не грамотное завещание матери, отравленной, похоже, «по-родственному» и, по мнению врачей, ртутью, то истратил бы больше, конечно, и невеста стала бы беднее просто. Цепь серебряная, однако, подаренная царицей честной кормилице, нашлась у дяди Васи и ревностно охранялась его женой Томарой, что меня удивляло, ведь я-то была законнорождённым ребёнком, в отличии от её родни по линии аж жены старшего брата, тоже вернувшегося из Казахстана и проживавшего в пригороде. Отец бабушки умер также скоропостижно и аналогично, придя из какого-то питейного заведения. Не взял какую-нибудь «хорошую женщину» замуж? Но матерью бабушка стала только в 20 лет. Раннее материнство не приветствовалось и в царское время. Наемным работникам в отсутствие мужа бабушка могла платить и платила только деньгами, которые имела от мужа-литейщика. «Натурой» платить было невозможно. У всех своя имелась. Считалось во все времена, что быть замужней, это быть обеспеченной женщиной и не перегруженной хозяйственными работами, хотя моя прабабушка и была, выражаясь современным языком, предпринимательницей, примерно, среднего звена, но и муж был в сотоварищах, конечно. Выделкой шкур занимался он. Бабушка бизнесом родителей не интересовалась и помнила только бочки со шкурами и развешанные под навесом разные. Мужчины, гордилась бабушка будучи замужем, брали с собой в поле, т.к. могла и косить и стол (поляну) накрыть, чем многие женщины не могли похвастаться.
Как рассказала, два года после переезда прожили в Ленинграде «за занавеской», т.е. не в своем доме и не в отдельной комнате, т.е. не имели даже и спальни, как и многие в те сложные для страны годы. Нельзя было жить всегда «за занавеской» и дед, как глава семьи, построил сам, с не родным, конечно, братом, домик, буквально, из брошенных после разбора железнодорожных путей шпал. Дому даже не присвоили отдельный номер и зарегистрировали как отдельную квартиру с трехзначным номером (условно, 876). Так и жили в домике «на двоих с братом», на наб. Обводного канала, по ул. Варшавской.
Жили в хорошем достатке и по всей ул. Варшавской, это была, пожалуй, что и одна из самых состоятельных семей. Во дворе устраивались постоянно, практически, танцы с патефоном на окне, куда приходили все желающие. Пластинки модные, танцевать было кому. Отец занимался в театральной студии, играл на домре, гитаре, бил чечетку, учительница в школе, сгоревшей в годы войны, выставляла его за дверь на время написания контрольных по математике, чтобы за других не писал, выполнив оба варианта. В футбол играли в парке на ст. Воздухоплавательная. Слава у парка была не самая положительная, но вечерами обычных парней там и не было. Этот опыт помог после окончания войны и демобилизации уже дяде Васе Лизунову трудоустроится в правоохранительные органы, хотя и не сразу. Членом партии он не был, а вот отец был, но это были добровольные общественные организации, как, например, ДОСААФ или Профсоюз и была война, конечно. В военные годы люди на передовой не редко писали заявления о приёме в ряды КПСС одной фразой «Иду в бой, считайте меня коммунистом». К слову, судимости снимали за участие в боях почти на правах смертников. Дядя Вася (двоюродный) занялся после ВОВ спортом (борьба) достаточно профессионально (в те годы все виды борьбы считались любительским спортом), сказав, что «не хочет искать краденые велосипеды». Как таковым, спортом, он, конечно, с детства не занимался, а на Урале просто работал как все. У него хорошо получалось «любительство»! Не полученные лейтенантские погоны после окончания Школы милиции его нисколько не волновали. У него было любимое дело, которое он делал хорошо. Не секрет, что футболисты наши, аналогично, тоже считались любителями и числились станочниками на бригадном подряде. Так что контролировать их старательность было кому даже из чисто материальных соображений.
Старший брат Александр был ещё и страстный голубятник, занимался в художественной студии, до войны работал уже на заводе, в числе передовых рабочих. Не думаю, что он был так же фанатичен как это отражено в худ. фильме «Любовь и голуби», но одна талантливая и озорная голубиха, буквально, уводила целыми стаями голубей в свою голубятню, т.е. брата Александра. Выкупить обратно голубя стоило в те годы 5 рублей. Не дешево. Голубятников было много, конечно. Несколько раз голубиху покупали, но она упорно возвращалась на свою голубятню и, естественно, приводила с собой очередную стаю «влюбившихся». Голубятники, что называется, скинулись и предложили Александру достаточно большие деньги. Не подумав ничего плохого, он продал опять голубиху, уверенный, наверное, что вскоре опять её увидит у себя. Покупатели переспросили: «Продал?». Тот подтвердил, что, мол, да, продал. Даже не зайдя за угол дома, новый хозяин свернул красавице и умнице голубихе шею и всё. Голубиная верность достаточно известна среди голубятников. Помним, что и Бим Чёрное Ухо всё же вернулся к любимому хозяину и что погиб от людской злобы и только. В купчинской школе у меня была учительница литературы, бездетная, замужем за старшим офицером, имели большую собаку и брали с собой загород, в машине. Как-то потерялась. Пришла через несколько дней в новостройки наши, к многоэтажному дому, и встречена была объятиями. Об этом знала вся школа. В городе Ленинграде люди отчетливо понимали, что никакой пощады им не будет от врага и старались прожить подольше и умереть, прихватив как можно больше врагов с собой. «Баллада о вересковым мёде» была достаточно популярна ещё и в 60-е годы прошлого столетия.
В качестве дополнительного источника дохода братья Дмитриевы собирали металлолом, благо в 30-е годы его было не мало, но принимали в пунктах приемных в определенных пределах по размеру и они затаскивали большие обломки во двор, а отец после работы разбивал молотом на более мелкие части. Много мужчин послевоенного времени способны были работать молотом? Собирали металл, больше, вдоль железнодорожного полотна и по берегам рек и залива. Действительно, бегали по крышам вагонов. Наверное, притормаживали поезда не бескорыстно, но дело было полезное для всех. На деньги, вырученные от сдачи металлолома (кроме расходов на голубей и корма, конечно, своих текущих), покупали самые дешевые и не нужные никому пластинки, разбивали их об угол стола и сдавали в утиль, буквально, сетками. Со справкой о сдаче утиля покупали уже модную пластинку, которую вечером крутили, собирая целую танцплощадку. Вкусы были достаточно известные. Песня-шлягер «Ах, С-а-аша, ты помнишь ночи наши, в Приморском парке, на берегу реки…». Незатейливые мелодии. Конечно, все знали и Зыкину, и Утесова, и Шаляпина, и Русланову. Как сформулировала бабушка уже в 60-е годы прошлого столетия, «жили весело» и в деревне и в городе. Эту пластинку слышала и я на том же патефоне. Потом она куда-то исчезла, а от патефона уже в 80-е годы остался только ящик. Наверное, молодой муж внучки соседки бабушки Олюшки, вдовы военнослужащего, имевшей «похоронку» на мужа, в отличии от бабушки, имевшей извещение о пропавшем без вести в боях под Сталинградом, заменил чье-то ржавое «нутро» на бабушкин без пользы лежащий «хром». Иголки для пластинок затачивали вручную всегда. Наверное, этот довоенный опыт использовался при сборе макулатуры в 70-е годы, когда сдавали «за справку», не брали и тех копеек, которые предусмотрены были государственными органам, и покупали какой-нибудь исторический роман или другие малоиздаваемые книги. Я тоже собирала макулатуру и сдавала. Именно тогда я прочла Коллинза «Женщина в белом». Сюжет-то классический: сёстры, не знающие об этом, а смысл – наследство, обеспечивающее приличиствующее проживание. Матери девочки судьба её была достаточно безразлична, сама имела необходимый минимум удобств, а законную наследницу спасла подружка-родственница от смерти в дурдоме вместо сводной сестры. Денег своих не увидела всё равно. Этот же вариант использовался с подбором двойников и у меня, когда спортсменку очень похожую на меня выдают за инженера, но, «инженер» – «синий чулок» (я) слишком физически не соответствовала «облику» потомства «царского». Герберта Уэльса, в 24 томах, стоявшего на полке у соседей, трёх женщин, Обе дочери не были замужем, а соседка преклонных лет дразнила их кота валерьянкой, но тоже не имела детей. Осилила я, усидчивая девочка, фантастику только до 6 тома и то не «от корки до корки». Летающее яйцо, правда, упоминала не единожды. Разве поезд Сапсан не напоминает в носовой части острый конец яйца? А скоростные самолёты с клювом орла? Считалось, что сберегаем гектары леса, помогаем издавать классику, делая бессмертными людей талантливых. Лесные пожары были редкостью. Партизанское движение не пресекалось пожарами в годы ВОВ, хотя поля с посевами и выжигались, деревни – до тла, город Ленинград бомбился ежедневно и никто не сомневался, что Бадаевские продовольственные склады около Обводного канала горели «по наводке». Долго ещё жители копали землю пропитанную сахарным песком, заливали водой и кипятили здесь же, сливая сладкую воду. Не секрет, что и прокипяченная земля содержит столько всякого гадкого, что расстройство желудка почти обеспечено. Но это была пища. Всем «сверху донизу» верилось в скоротечность войны, хотя Финская война только-только закончилась с большими потерями и рядом «неожиданностей». Фраза «Война всё спишет» была весьма популярна и использовалась и в шутку и всерьёз, вошла в художественные фильмы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: