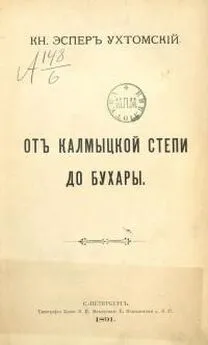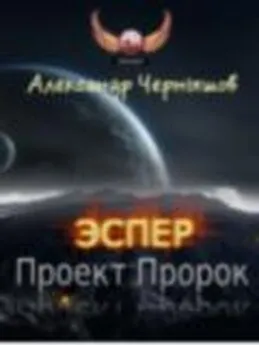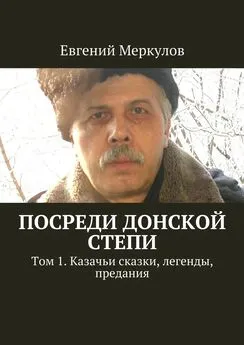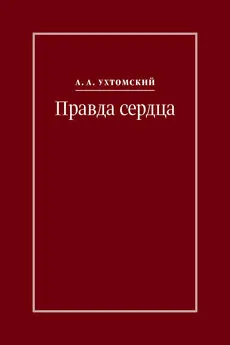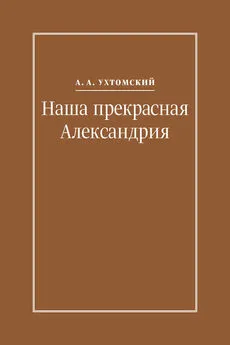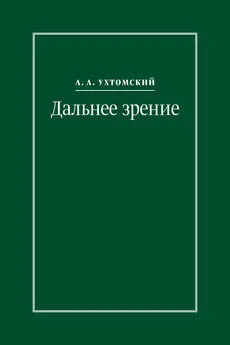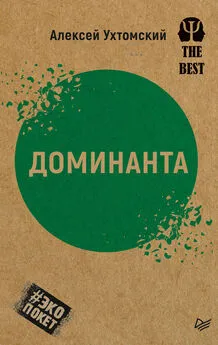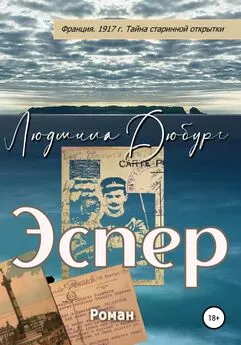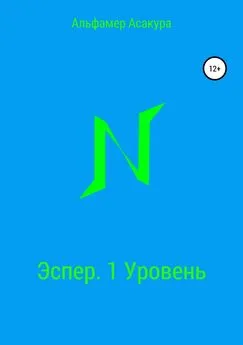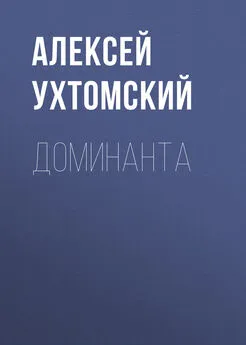Эспер Ухтомский - От Калмыцкой степи до Бухары
- Название:От Калмыцкой степи до Бухары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Типография князя В. П. Мещерского
- Год:1891
- Город:Санкт-Петербургъ
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эспер Ухтомский - От Калмыцкой степи до Бухары краткое содержание
Туркмения была последним регионом Средней Азии, покорившимся Российской империи, тем важнее было для России закрепить свое культурно-экономическое влияние в этих далеких землях. Попутно путешественник рассказывает об Астрахани, развитии ее экономики, разведении тутового шелкопряда, культуре и быте калмыков, исповедующих буддизм, об их культурных связях с Тибетом и Забайкальем. Очерки Э.Э.Ухтомского были направлены на то, чтобы привлечь внимание ученых, правительства, предпринимателей к изучению и развитию восточных окраин Российской империи.
От Калмыцкой степи до Бухары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так как уже речь зашла о казнях, о смерти вообще и в частности, не могу не припомнить одного факта, врезавшегося мне в память на пути от Узун-Ада в Самарканд. Ехала громадная толпа богомольцев из Мекки. Один бедняк, видимо совсем ослабевший, благодаря дурному питанию и болезненности, заметил, что у него начинают чернеть ноги. Товарищи преспокойно решили бросить несчастного, хотя ему, вероятно оставалось всего дня два-три до дому.
Покинутый хаджи сел около железнодорожной станции, на припеке, окруженный любопытными ребятишками. Обнаженная до колена оконечность представляла приманку для множества /172/ мух. Он изредка сгонял их, медленно и почти нехотя. Признанный и нему врач нашел, что противодействовать гангрене поздно. Оставалось послать за носилками и снести больного в барак. Выражение лица у злополучного богомольца нисколько не выдавало, что происходило в душе при расставании с телом. Мне доводилось видеть умирающих в менее тяжелой обстановке, но такого невозмутимого состояния духа я еще до сих пор никогда и ни не встречал.
Когда он устремлял вперед потускнелый взор‚ так и хотелось спросить: что он видит в предсмертной агонии, что ему рисуется в неведомой и непонятной для нас дали? Не Медина ли вставала перед ним?.. Цепь гор. Великолепные сады. Громадный шар и полумесяц из золота горят над свинцовым куполом. Под ним покоится «пророк». Рядом лежат два первые халифа. Богато задрапированные катафалки едва видны в комнате, сбитой черным. Вокруг – мечеть. Роскошные ковры тянутся по мраморному полу. Надписи по сторонам. Пестрые столбы (иные с изображением деревьев и цветов). Таинственный свет, струящийся от лампад... Вот - двор центрального мекканского святилища, с /173/ красивыми вратами, сотнями порфирных и гранитных колонн, множеством маленьких куполов, с минаретами. Певучие голоса муэдзинов призывают к поздней молитве. Нигде не услышишь таких сладостных звуков. Как они однако отличны от того, чему приходится» внимать у подножия соседней с городом священной горы Арафат! Все хаджи, затаив дыхание, ожидают, что скажет проповедник. На белой, разукрашенной верблюдице, с вершины холма, неподвижный старец под с белым покрывалом, с длинной палкой в деснице, выделяется между неисчислимыми толпами верующих. Около негры держать сребротканые зеленые знамена старшего из местных потомков Магомета. При каждом слове люди бьют себя в грудь, громко плачут, падают ниц, все более и более погружаются в напряженно-восторженное состояние... Умирающий в Закаспийском крае хаджи чувствует свою связь с ними.
-------
/174/
XIX
НА ГРАНИ БУХАРСКИХ ВЛАДЕНИЙ.
Кроме представлений заезжего цирка и странствующей драматической труппы, кроме собраний в клубе, чарджуйская жизнь ничем не возбуждается к веселью. Оживления здесь вообще мало. Изредка бухарские власти смежного одноименного города устраивают для народа любимую туземную потеху, так называемую «байгу». Слово это у кочевников (в киргизских степях), собственно, значит – «скачка на приз»; устраивается она, чаще всего, при состязаниях на поминах или на свадьбах и т. п. Там на лучших лошадей садят мальчуганов, и кони с поражающей быстротой пробегают от тридцати до сорока верст. Иной раз просто красивая девушка скачет впереди молодежи. Каждый из тех, кто гонится, старается настичь наездницу ради поцелуя. Она жестоко отбивается /175/ плетью. В том и другом случае есть что-то поэтическое, требуется известного рода выносливость, удаль. Здесь, в оседлых частях Средней Азии, ничего подобного нет. Последнее явление даже безусловно немыслимо, в виду замкнутого положения, в которое поставлена мусульманская женщина. Местная байга, если присмотреться и вдуматься, не только не может тешить‚ но должна в конце концов производить отвратительное впечатление. Вот в чем она заключается.
Перед большой палаткой, на каком-нибудь маленьком пригорке, среди равнины, днем, при ясной погоде, съезжаются: чарджуйский бек (губернатор с обширными полномочиями), его свита и наш военно-чиновный мир. Мундиры, сюртуки, пестроцветные халаты скучиваются, смешиваются. Поодаль видны экипажи, казаки, солдаты, рабочий и торговый люд.
Громадная конная толпа туземцев, в самой разнообразной и пестрой одежде, нетерпеливо топчется пред очами своего начальства, ожидая, когда начнется забава. Наконец она начинается. Под ноги тесно съехавшимся лошадям бросается только-что зарезанный молодой козел черного цвета. Резкие крики глухо вырываются из груди всадников. Содроганье пробегает /176/ между ними. Все стараются надвинуться на место, где упало животное, пригибаются к земле, понукают коней, как бы для оказания помощи хозяевам. Упорная борьба. длится иногда несколько томительных минут. Собственно, ничего не видишь, ничего не понимаешь в этом медленно развертывающемся смятении. Но вдруг картина меняется. Кто-нибудь ловко и сильно схватил добычу, пробивает себе дорогу между ` наездниками и, если лошадь его понятлива, резва, то далеко выносится за черту предыдущего состязания. Противники гонятся, отстают, настигают, широкою лентою тянутся то здесь, то там позади счастливца. Козел часто переходит из рук в руки. Венец искусства заключается в том‚ чтобы стремительно кидаться по сторонам‚ так сказать, перелетая с места на место, измучить соперников и сбить их с толку, первому прискакать в бековскому шатру и швырнуть к его подножию мертвое животное. Добыче случается быть истерзанной на куски. Кому достается нога, кому голова. За одним «козлодранием» следует второе, третье и т. д. Любители-туземцы ожесточаются, забывают, где они и что они, ежеминутно грозят повалить палатку с начальством. Но она бдительно охраняется ярко разодетыми бухарцами (из свиты /177/ губернатора), которые большими, увесистыми палками отсыпают удары, по чему попало, направо и налево, по людям и коням. Зрителям положительно должно надоедать нелепое времяпровождение туземцев. На потеху можно смотреть с любопытством при ее начале, но они, видимо, игры не знают. «Лошадей калечат‚ больше ничего», выражается про них один здешний полковник - киргизский султан Букеевской орды. Лучшее изображение «байги» я встретил в красивом издании Мозера – «A travers l’Asie centrale».
Желая иметь некоторое представление о старом Чарджуе, я отправился туда. Он расположен верстах в десяти от нового, на левом же берегу Аму-Дарьи, хотя слегка в стороне от нее - из опасения наводнений - а также южнее железной дороги, пересекающей оазис. И то уж вся местная жизнь, с внешней точки зрения, слишком быстро теряет свой среднеазиатский отпечаток былого обособления, замкнутости! Русский город в течение целого дня полон туземцев, да и мы свободно гуляем по бухарскому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: