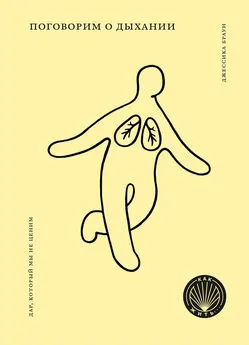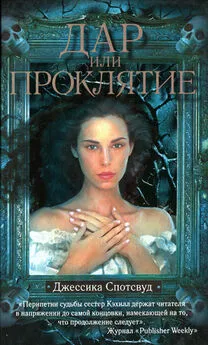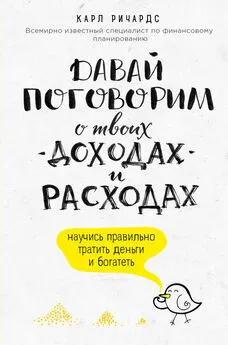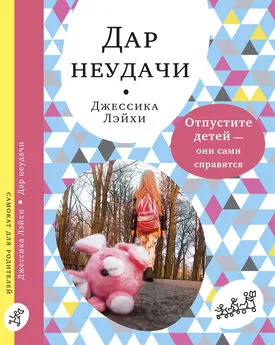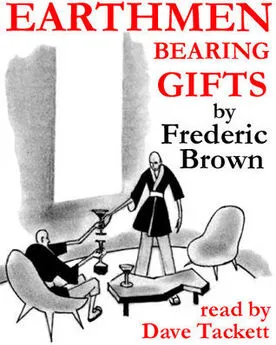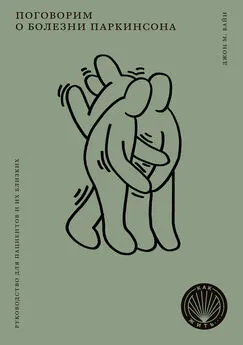Джессика Браун - Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим
- Название:Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джессика Браун - Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим краткое содержание
Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Обмен веществ нового типа превратил цианобактерии в успешнейшие микроорганизмы. Они начали строить себе города — строматолиты. Эти напластованные из известняка глыбы или столбы во многом схожи с тромболитами озера Клифтон, но часто достигают в высоту нескольких метров — предтечи нынешних рифов. Однако не все анаэробы эволюционно затерялись. Некоторые попробовали слиться — и накрыли собой близкие им цианобактерии. Не слишком дружелюбное поглощение: проглоченные одноклеточные едва не оказались переваренными. Но каким-то образом им всё-таки удалось спастись из вакуоли в цитоплазму захватчика. Здесь способные к фотосинтезу цианобактерии начали вырабатывать для хозяина глюкозу. А те поставляли необходимые для этого молекулы. Возник новый организм, предок ныне существующих водорослей и растений. Теперь прежние бактерии работают в их клетках как хлоропласты — фабрики по производству кислорода фотосинтезом. Наряду с другими всё еще свободно живущими цианобактериями они осуществляют бόльшую часть фотосинтеза на планете. Превращают леса в зеленые легкие, озеро Клифтон — в место, где дышится полной грудью. И дают нам пищу.
Без бактерий наше существование было бы невозможно. Ведь не только растительные, но и животные клетки — а значит, и наши — произошли из симбиоза микроорганизмов. Об этом свидетельствует теория эндосимбиоза биолога из США Линн Маргулис. В шестидесятые годы прошлого века, когда Маргулис предложила свои тезисы, их никто не желал публиковать. Что? Люди — внуки бактерий?! Сегодня симбиогенез пользуется признанием. Электростанции наших клеток — митохондрии — прежде, вероятно, были протеобактериями. Таким образом, каждый вдох обеспечивает потомков древних бактерий в наших клетках столь необходимым им кислородом.
Есть еще одна причина для благодарности цианобактериям. Избытки выделяемого ими кислорода распределяются в атмосфере. Примерно с десятикилометровой высоты молекулы под действием ультрафиолетовых лучей начинают расщепляться и формироваться заново: O 2превращается в O 3 — озон. Озоновый слой окружает планету, как четырехметровый непроницаемый щит. До поверхности доходит лишь незначительная часть агрессивного ультрафиолета. Условие жизни на Земле. Не будь озонового слоя, человечество до сих пор пребывало бы на стадии доисторических крабов.
Закончив опыты с получением кислорода и озонового слоя, цианобактерии двинулись в следующую исследовательскую экспедицию на неизведанные территории. Они были первыми живыми существами, которые вышли на сушу — да там и остались. За ними последовали водоросли. Лишайники колонизировали камни. Грибы раскинули сеть мицелия. Может быть, под водой стало жутко. Там беспрестанно копошились странные твари: бесцветные позвоночные с трубчатыми сердцами, крошечные рогатые личинки, бесчелюстные круглоротые. Эволюция, подстегнутая кислородом, непринужденно распределяла глаза, челюсти, хрящевые скелеты, кости, жабры и — легкие. Как и ныне сохранившиеся двоякодышащие рыбы, некоторые древние обитатели морей имели и жабры, и легкие. Они получили преимущество, поскольку растворенного в воде кислорода недостаточно. Жаберное дыхание требует немало усилий. Для того чтобы извлечь из воды такое же количество кислорода, как из воздуха, рыбе требуется омыть жабры двадцать три тысячи раз. А с дополнительным легким достаточно скользящей прогулки к поверхности: «Пойду-ка глотну свежего воздуха!»
Взгляд над водой пробудил в рыбах любопытство, и некоторые из них выползли на мясистых плавниках на берег. Кое-кто вернулся потом обратно на глубину. Освоение нового мира не протекало линейно. Скорее, это движение туда-сюда. Прикидки природы, которая развивала новые формы, уже существующие модифицировала или отбрасывала, — и всё это чтобы следовать «зову кислорода», как выразился датский физиолог, лауреат Нобелевской премии Август Крог. Кислород был ключевым моментом. За каждым вымиранием следовало усовершенствование дыхательных органов. Однако концентрация кислорода в воздухе значительно колебалась. Вероятно, по этой причине эволюция бережно сохраняет свои наиболее успешные проекты: через две недели после зачатия на головке человеческого эмбриона наблюдаются четыре уплотнения. У рыб из таких же выпячиваний позже сформируется жаберный аппарат. Если однажды воздуха на Земле будет не хватать, мы, очевидно, успеем вернуться в море.
Европа триста миллионов лет назад. Воздух густой и влажный, словно пудинг. В темных водах тропических болот гниют сломленные ветви окружающих чешуйчатых деревьев. Сорока метров в высоту достигают эти травовидные. Их раскидистые кроны затеняют даже гигантские хвощи у самой воды. Под папоротником высотой с человеческий рост что-то копошится: многоножка размером с малолитражку, защищенная чешуйчатым панцирем, рыщет в поисках жертвы — рептилии или яиц. Над ней гудит стрекоза, устремляясь к воде. Солнце переливается в ее филигранных крыльях всеми цветами радуги. Захватывающее зрелище. Размах крыльев этого насекомого равен размаху крыльев чайки. В нынешних условиях меганевры — так называют этих монстров — не могли бы подняться в воздух. Однако атмосфера каменноугольного периода сильно отличалась от нашей. Зеленый ковер водорослей и мхов обеспечивал повышенное содержание кислорода. Тридцать пять процентов против нынешних двадцати одного. Эти проценты обеспечивали насекомым подъемную силу. Они отличались многообразием, а с развитием — и строением крыльев. Их трахея была оптимально приспособлена к дыханию тем воздухом. Система воздухообмена снабжала клетки кислорода напрямую. Ни в легких, ни в кругах кровообращения не было необходимости. Огромные объемы энергии высвобождались в короткое время и позволяли ускользать от опасности. Трахеи, однако, имели существенный недостаток: они занимали слишком много места, иногда были непропорционально большими. Филигранным косточкам, которые тоже необходимо снабжать кровью, уже не оставалось пространства. Поэтому самый крупный из оставшихся насекомых, жук titanus giganteus, — размером всего лишь в семнадцать сантиметров. Нынешняя атмосфера не дает ему большего шанса.
Американский геохимик Джон Ванденбрук исследовал, как содержание кислорода влияет на различных насекомых. Он в своей лаборатории подвергал мучных червей, черных тараканов, жуков и стрекоз разнообразным атмосферным воздействиям. Трудоемкая работа. Личинки стрекозы — прожорливые охотницы, сухой корм есть не станут. Более двухсот особей он кормил ежедневно живой добычей. Но, несмотря на заботу, при двенадцатипроцентном содержании кислорода из личинок вылуплялись карлики. При тридцати одном проценте кислорода, наоборот, толстые монстры. Нынешние стрекозы, жуки и многоножки выглядели бы смехотворно в каменноугольном периоде. Позволяла вырастать до гигантских размеров или принуждала к этому насыщенная кислородом среда?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: