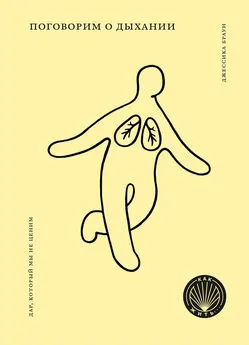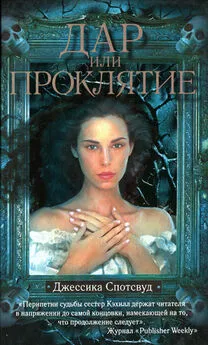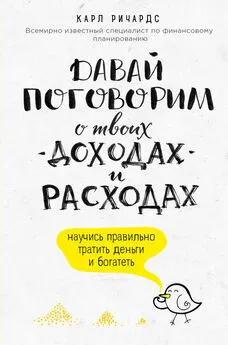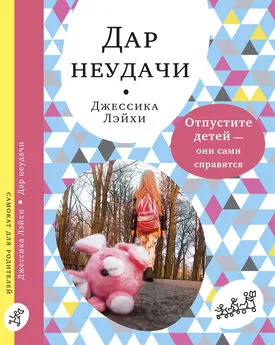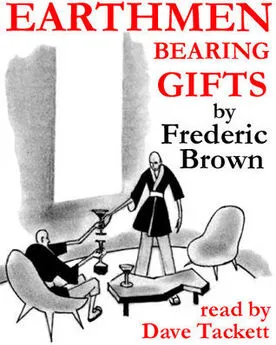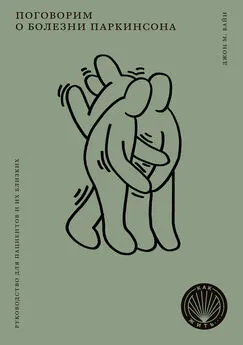Джессика Браун - Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим
- Название:Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джессика Браун - Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим краткое содержание
Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Греческий философ Анаксимен (585–525 гг. до н. э.) считал, что воздух — первичная материя, из которой возникло всё. Также в античности на эту роль претендовали вода и огонь. Решением дилеммы стало учение о четырех элементах философа Эмпедокла (495–444 гг. до н. э.). Согласно ему, всё сущее состоит из четырех стихий: воздуха, огня, земли и воды. Точка зрения, которая продержалась на удивление долго и обладала влиянием в разных сферах, не исключая и медицину. Лишь в XVII веке распрощались с идеей, что воздух является элементом. Сегодня мы знаем: воздух — это материя. Смесь газов, частицы которого беспрестанно движутся со скоростью около четырехсот метров в секунду и тем не менее держатся на довольно большом расстоянии друг от друга. Проще говоря, у них много воздуха. Так что наша ассоциация воздуха со свободой не так уж и неверна. Иногда частицы всё-таки случайно сталкиваются и отскакивают, как электромобильчики на картинге. И чем чаще происходят столкновения, тем выше атмосферное давление.
Вдыхаемый нами воздух более чем на три четверти состоит из азота (N) и примерно на пятую часть из кислорода (O 2). Около одного процента составляют аргон (Ar) и следы других инертных газов. Окись углерода (CO), диоксид серы (SO 2) или оксид азота (NO) свидетельствуют о загрязнении воздуха, будь тому причиной дизельный двигатель, горящий в камине брикет или ТЭЦ. Однако, если у нас «скребет в горле», виноваты не они. Это неприятное ощущение возникает, когда в воздухе недостаточно водяного пара. Влажность менее двадцати процентов вызывает проблемы. Комфортной для нас является влажность от сорока до шестидесяти процентов. При влажности воздуха свыше этого большинство начинает сильно потеть. В воздухе, которым мы дышим, присутствуют аэрозоли, смеси газов, жидкие и твердые частицы, а также органические вещества: пыльца, водоросли, споры грибов, вирусы. Неорганические соединения испаряются морями и океанами, извергаются вулканами, выбрасываются трущимися об асфальт автомобильными покрышками. И всё это мы втягиваем в легкие ради малой толики кислорода, — как если бы, желая лишь изюминку, съедали коробку мюсли.
Газы расширяются, насколько позволяет пространство. Состав воздуха в атмосфере на высоте ниже двадцати километров примерно одинаков по всей планете, разве что с незначительными колебаниями в региональных и часовых рамках. В ночное время сгущается выдыхаемый животными и людьми углекислый газ. С первыми лучами солнца пробуждается всё зеленое. Деревья на бульваре, тростник, газон футбольного поля и даже фикус в офисе начинают своими устьицами — порами на поверхности листьев — вытягивать из воздуха углекислый газ, а в окружающую среду перекачивать кислород. Например, полуторавековой бук за день фильтрует своими восемьюдесятью тысячами листьев свыше двадцати четырех килограммов диоксида; столько же выбрасывает малолитражка на ста пятидесяти километрах. Но его листья поглощают еще и аэрозоль из истираемой резины, и бактерии. Одиннадцатью тысячами литров выделяемого кислорода наш бук может обеспечить целую классную комнату. Кроме того, он увлажняет воздух, «выдыхая» до пятисот литров воды в день. Именно эта эвапотранспирация, или суммарное испарение, делает древесную тень столь приятно прохладной. С заходом солнца фотосинтезу приходит конец. Растения теперь тоже переключаются на дыхание кислородом, как люди и животные, — пока утром не начнется новый цикл.
Похожее происходит и с временами года. Весною в Северном полушарии всё всходит и распускается — и появляется больше кислорода для каждой твари. Сезонные колебания содержания кислорода в атмосфере над большими городами достигают десяти процентов. Осенью шуршание палых листьев под ногами знаменует разложение. Хороший аргумент, если нет желания выходить на прогулку: «Подумай, сколько углекислого газа сейчас в лесной подстилке!» Кхе, кхе! На самом деле разницы никакой. Теперь в работу вступает Южное полушарие. Суши там, конечно, меньше, зато много лесов, которые поставляют нам изрядную долю кислорода. Однако самым мощным производителем кислорода на Земле являются крохи, обитающие в морях и океанах: одноклеточные прохлорококки. В каждой капле воды содержатся миллионы этих цианобактерий. Им и другим морским организмам мы обязаны семьюдесятью процентами нашего кислорода. На съемках со спутников NASA к западу от пролива Дрейка виден растянувшийся на тысячу километров зеленый ковер фитопланктона — водорослей и цианобактерий. Там, между южной оконечностью Южной Америки и северной Антарктического полуострова, океан похож на джакузи. Океанические течения и постоянные западные ветра взвихривают и развевают на все стороны света то, что отдают микроорганизмы: кислород для всех.
Кислород — наиболее часто встречающийся элемент на Земле. Он обеспечивает рост и развитие, он жизненно важный ресурс. В атмосфере нет более драгоценных для нас молекул. Без кислорода не могли бы осуществляться многие реакции — среди газов он нечто вроде зачинщика, вмешивается во всё подряд.
Половина всех атомов в земной коре — атомы кислорода, они присутствуют почти во всех минералах. В атмосфере он фигурирует в виде двухатомной молекулы (O 2), озона (O 3) и в различных соединениях вроде диоксида углерода (CO 2). В воде — двухатомным водородом и одноатомным кислородом (H 2O). Вода наполняет реки и океаны, причем кислород составляет девяносто процентов массы. Раскачивающаяся лейка, полная до краев, которую едва поднимаешь? И, конечно, из кислорода состоит наше тело. За двадцать четыре часа человеческий организм перерабатывает примерно квадриллион молекул кислорода. Две тысячи триллионов триллионов находится в нас ежемоментно: в кровотоке как O 2, а в основном — в виде воды.
Хотя кислород вездесущ, он становится ощутим, лишь когда его не хватает. У него нет ни вкуса, ни запаха. Леденцовую синеву он проявляет только в жидкой форме, при нестерпимых минус 182,97 по Цельсию. Открыт он был (а заодно и функционирование дыхания) только в XVIII веке. Первые алхимики, получившие в своих опытах кислород, не знали, куда его вписать. Для них любой дым или туман был своего рода «воздухом». Вот и Роберт Бойль, натурфилософ ирландского происхождения, не «раскусил» его, когда в 1673 году выпарил оксид свинца. Он знал, что и свечи, и животные равным образом излучают свет, когда их лишают воздуха с помощью вакуумного насоса. В своем сочинении 1674 года «Suspicions about the Hidden Realities» [14] «Suspicions about the Hidden Realities» ( англ. ) — «Подозрения о скрытых реалиях воздуха».
он писал: «Не раз меня посещало подозрение, что воздух имеет и иные скрытые свойства или силы… ибо он не есть простая и элементарная субстанция, как полагают многие, а дикая смесь». Без немецкой любви к порядку «дикая смесь» могла бы раскрыть свои секреты куда раньше. Химик Георг Эрнст Шталь (1659–1734) был не только лейб-медиком прусского короля, но еще и президентом Collegium Medicum [15] Collegium Medicum ( лат .) — медицинская коллегия.
в Берлине, а также влиятельным ученым. Он пытался систематизировать процессы, протекающие при химических реакциях. Флогистонная теория его коллеги Иоганна Иоахима Бехера показалась ему подходящей: каждое горючее вещество содержит флогистон — субстанцию, высвобождающуюся при горении. Вполне приемлемая рабочая гипотеза, в свое время представлявшаяся прорывом. Эта таинственная субстанция позволяла объяснять результаты кое-каких лабораторных опытов: так флогистон на десятилетия оказался своеобразным заместителем кислорода.
Интервал:
Закладка: