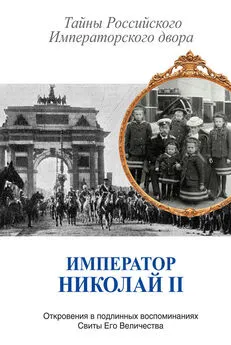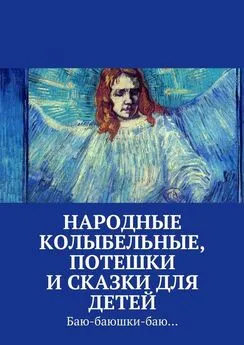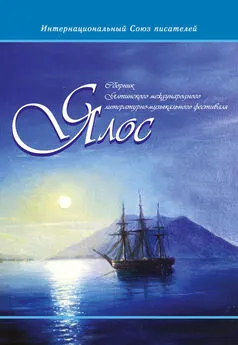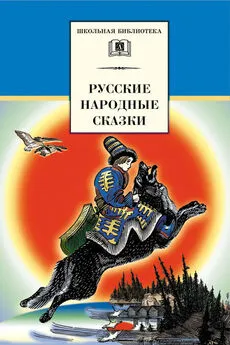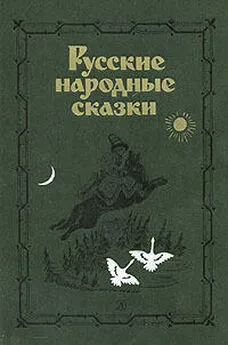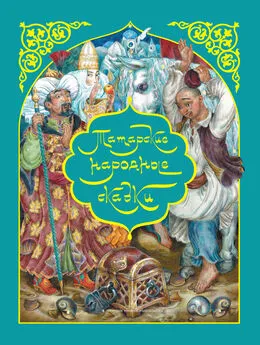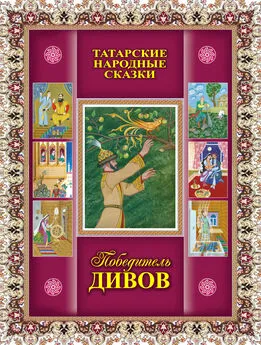Array Сборник - Мэзэки (народные шутки)
- Название:Мэзэки (народные шутки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-298-03551-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник - Мэзэки (народные шутки) краткое содержание
Рассчитан на фольклористов, литературоведов, историков и этнографов, преподавателей и учащихся, а также на широкий круг читателей.
Мэзэки (народные шутки) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Так, значит, Давлет слепой?
На что поэт, не задумываясь, ответил:
– Если бы Давлет не был слепым, не достался бы он Хромому [8] Исәнбәт И. Татар халык мәкальләре: 3 томда. – Казан, 1959. – 3 т. – 322 б.
.
Хотя этот мэзэк имеет довольно древнее происхождение, он полностью отвечает и современным требованиям жанра. Здесь использован часто встречающийся в анекдотах приём – употребление слова в нескольких значениях. «Давлет» обозначает: 1) богатство, имущество, 2) страну, государство, 3) имя человека. Отвечая: «Давлет слепой», поэт намекает на «слепоту» своей страны (то есть на её неготовность отразить нападение врага) и тем самым бросает тень на полководческую славу Тимура. Кроме того, со словом «слепой» удачно сочетается слово «хромой» – намёк на физический недостаток самого Тимура [9] Анекдот, построенный на двузначности слова «давлет», известен и в индийском фольклоре. Там оно означает имя человека и имущество (богатство). См.: Забавные рассказы про великомудрого и хитроумного Бирбала, главного советника индийского падишаха Акбара. – М., 1968. – С. 167.
.
Предоставление ответа в этом мэзэке поэту-импровизатору (чичену) тоже соответствует традициям жанра, ибо в создании народных шуток особенно активна роль острословов. «Если соберутся пять-шесть человек, среди них непременно сыщется остроумный человек, создающий весёлое настроение… Это бывало и раньше, и сейчас водится. Даже крохотное жизненное приключение, попав на язычок этого острослова, быстро превращается в весёлую шутку», – пишет Г. Баширов [10] Бәширов Г. Мең дә бер мәзәк. – Казан, 1963. – 380 б.
.
Использование в литературных произведениях как собственных шуток народа, так и переводных анекдотов – первый шаг в их собирании и издании. Эта традиция сохраняется на протяжении столетий и особенно активизируется в XIX веке. А в 1845 году в Казани, в типографии Шевица печатается в переводе с турецкого первый самостоятельный сборник шуток – «Ләтаиф Хуҗа Насретдин әфәнде» («Анекдоты Ходжи Насретдина»), содержащий 124 текста.
Согласно данным, приведённым А. Г. Каримуллиным в указателе [11] Каримуллин А. Г. Татарский фольклор. Аннотированный указатель литературы (1612–1981): в 2 ч. – Казань, 1993.
, во второй половине XIX – начале XX столетия анекдоты Ходжи Насретдина печатаются 31 раз. Кроме того, выходит в свет 13 сборников под названием «Ләтаиф» («Анекдоты»), «Мәҗмәгыль ләтаиф» («Сборник анекдотов») и др. Количество же книг, в которые вошли отдельные тексты шуток, превысило два десятка. Правда, эти цифры, за вычетом повторных изданий, следует чуть приубавить. (Например, мы сопоставили издания сборника «Анекдоты Ходжи Насретдина» 1845, 1881 и 1890 годов. Между ними почти нет различия.) Не следует забывать, что большую часть текстов составляют переводы восточного и русского фольклора. Некоторые авторы сами упоминают об этом. Так, Салихджан Кукляшев пишет о том, что пословицы для хрестоматии «Диване хикаяте татар» («Сборник татарских рассказов») он собирал среди народа, а рассказы (среди них есть и шутки) брал из рукописных книг и переводил с восточных языков [12] Татарская хрестоматия, составленная Салихджаном Кукляшевым. – Казань, 1859. – С. 111.
.
Такое широкое распространение в печати жанра мэзэка следует в первую очередь объяснить бурным ростом просветительского движения среди татар. Это наглядно заметно в деятельности великого просветителя Каюма Насыри. В книгах «Җәваһирел хикәят» («Жемчужины рассказов»), «Кырык бакча» («Сорок садов»), «Фәвакиһелҗөләса фил әдәбият» («Плоды для собеседников по литературе») он помещает десятки текстов мэзэков. В них ставится задачей разоблачение таких отрицательных явлений, как религиозный фанатизм, суфизм, ишанство, схоластика, тупость, невежество, корыстолюбие, жадность, лень и т. п. Материал, служащий этой цели, К. Насыри в основном черпает из восточного фольклора. Здесь нет ничего противоестественного. Потому что «в комическом творчестве народа мы находим противопоставление той доктрине подчинения и религиозного благочестия, которая являлась на Востоке официальной. В анекдотах слышится насмешка трезвого ума над всем условным и не имеющим действительного содержания. Вспомним, как Ходжа учит или учится, как постится, молится Богу, сталкивается с людьми богатыми и бедными; всюду и во всём отражается неразумность догм, законов и установлений мира угнетателей, их несовместимость с требованиями живой материальной практики, с человеческими потребностями» [13] Давлетов К. С. Фольклор как вид искусства. – М., 1966. – С. 244–245.
. Произведения подобного содержания приобрели актуальность и в татарской общественной жизни второй половины XIX века.
К. Насыри сам говорит о том, что книгу «Плоды для собеседников по литературе» написал, используя произведения египетского учёного XIX века Мухаммеда бин Ахмета аль-Хатипа и хорезмийского учёного XII века Мухаммеда бин Гасима бин Якуба Зимахшари. Можно полагать, что он обращался и к другим источникам Востока. Например, в книге К. Насыри есть мэзэки о враче, который лечил болезнь желудка, капая лекарство в глаз больного, о скупом человеке, заставлявшем детей спать на левом боку, так как якобы если спать на правом боку, то желудок работает хорошо; о том, как на глазах у больного скупца едят его продукты, чтобы заставить его пропотеть; о дураке, гоняющемся в поле за своим голосом; о бедняке, заставившем воров убраться не солоно хлебавши с сообщением: «Я здесь и днём с огнём ничего не найду» и др. Все они встречаются в «Книге занимательных историй» классика средневековой сирийской литературы Абуль-Фараджа (1226–1286) [14] Абуль-Фарадж. Книга занимательных историй. – М., 1957. – С. 108, 141, 147, 186, 200.
.
Разумеется, не все опубликованные К. Насыри шутки являются переводами. Чтобы выяснить это, нужно изучить, сопоставить восточные источники, использованные учёным. Но и без этого можно с уверенностью сказать, что отдельные шутки, основанные на игре слов «куна алып кил» (принеси доску для теста), «куна кил» (приходи с ночёвкой), или с похоже звучащими словами: «пычкы» (пила) – «ышкы» (рубанок) мог сочинить только татарский народ, ибо слова эти так сходно звучат только в татарском языке. При переводе их на другие языки исчезают сходство и игра слов и, следовательно, почва для шутки. Вот пример другой шутки:
«Когда один нищий умирал, к нему пришли близкие.
– Эх, имярек, состояние твоё плохое, произнеси иман.
– Ох, даже на смертном одре надоедают с этой иманой, – возроптал бедняга» [15] Насыйри К. Сайланма әсәрләр: 2 томда. – Казан, 1975. – 2 т. – 265 б.
.
Эта шутка построена на созвучии слов «иман» (слова, произносимые для заверения в верности Всевышнему) и «имана» (налог на землю). Слово «иман» арабского происхождения, а «имана» распространено только в царской России, среди татарских крестьян (переделка слова «имена» [16] Ахунзянов Э. М. Русские заимствования в татарском языке. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1968. – С. 156–157.
). Само собой разумеется, эта шутка – произведение татарского фольклора.
Интервал:
Закладка: