Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Самоубийцу объявили «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи». Поэта стали «насаждать, как картофель при Екатерине», так его убили во второй раз. Театр на Таганке возвращал расщепленному образу поэта глубину реальной трагедии. Революция как источник гибели Маяковского тогда не сознавалась в полной мере. Любимов меньше всего вел речь о самообмане поэта, который нес свою смерть в себе самом. На Таганке пытались понять, какие внешние силы погубили Маяковского. С блестящим остроумием артисты творили летучие сценки столкновений поэта с главным персонажем российской истории — чинушей и дураком (часто эти качества замечательно совмещались в одном лице). Любимов впервые прикоснулся здесь к теме, которая будет занимать его больше всего на протяжении двух десятилетий, вплоть до эмиграции: как существовать художнику, мастеру, артисту в условиях наглого, болотного полицейского режима. Он объяснялся в любви к неистовому Маяковскому, который тогда для Любимова был символом настоящей революции, как неистовый Фидель в военной гимнастерке был тогда символом истинного революционера на фоне бровастого партработника Леонида Брежнева.
Пафос истинной революции, который питал чувство создателей революционной трилогии в «Современнике», питал и Юрия Любимова. Так же как упоенно пели «Интернационал» в финале спектакля «Большевики», так же упоенно воспевалась революционная стихия в спектакле Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» по Джону Риду. С каким восторгом зрители (и автор этих строк среди них) вручали в дверях театра свои билеты актерам-крас- ноармейцам, которые их накалывали на штык; с какой радостью внимали диким революционным частушкам на улице и в фойе перед спектаклем; каким хохотом сопровождали сцену, где деятели Временного правительства высаживались на ночные горшки...
Спустя четверть века на вопрос художника-эмигранта Михаила Шемякина, зачем Любимов издевался над Временным правительством в спектакле 1965 года, режиссер ответит: «Сподличал». Позволю себе усомниться в этом: не в запоздалом раскаянии, а в том, что происходило в середине 60-х. Ничего он не сподличал тогда, он просто плыл в общем потоке. Ведь не случайно же Владимир Высоцкий — при всей его оппозиционности — на вопрос (это был 1969 год), кто его любимые герои, ответит: «Ленин и Гарибальди». Тут была та самая «энергия заблуждения», которую я уже не раз поминал.
Революция изменила лицо страны. Произошел глобальный сдвиг, взрыв, извержение социального вулкана. Миллионы умерли с голоду, в лагерях или эмигрировали. Те, кто выжили, как-то организовали свой быт, свое внутреннее хозяйство. На искусственном фундаменте утопической идеи привилась жизнь. Люди научились существовать в кратере вулкана, притерпелись к предлагаемым обстоятельствам окопного быта, к возможности в любую минуту быть поглощенными раскаленной лавой. Миф о чистоте революции был «коллективным бессознательным» нескольких поколений советских художников первой величины, и Любимов тут не исключение.
В спектакле «Послушайте!» убивали не только поэта. Вместе с ним убивали Великую Революцию. Это была пытка медленного уничтожения таланта: Маяковские уходили со сцены постепенно, один за другим (притом что мы все время ощущали их единство). Уходил Маяковский-лирик, не в силах стерпеть издевательства толпы; уходил поэт-сатирик; наконец, уходил и «трибун революции», не могущий больше существовать в обезлюдевшем государстве чиновников. Пять Маяковских уходили в небытие, ранили душу строки его черновика, ставшего лейтмотивом и сердцевиной зрелища: «Я хочу быть понят родной страной,/ а не буду понят —/ что ж,/ по родной стране/ пройду стороной,/ как проходит/ косой дождь».
Это был один из самых прозрачных, простых и очень горьких спектаклей Таганки. Кончалась короткая молодость театра. Из Праги засквозили свежие ветерки, в ход вошло понятие «социализм с человеческим лицом». В ответ зашевелилась притихшая было лава, ожил проклятый вулкан. Театр вместе со страной был на пороге крупнейших событий. Все это жило в спектакле о гибели Маяковского, в его тревоге, в его предчувствии.
Сохранился акт, составленный чиновниками Управления культуры Москвы, которые должны были решить судьбу спектакля о поэте революции. Приведу несколько выдержек из этого, столь же заурядного, сколь и выразительного документа: «Театр сделал все, чтобы создать впечатление, что гонение на Маяковского сознательно организовано и направлено <...> органами, представителями и деятелями Советской власти, официальными работниками государственного аппарата, партийной прессой <...> Выбор отрывков и цитат чрезвычайно тенденциозен <...> Ленинский текст издевательски произносится из окошка, на котором, как в уборной, написано «М». В спектакле Маяковского играют одновременно пять актеров. Но это не спасает положения: поэт предстает перед зрителями обозленным и затравленным бойцом-одиночкой. Он одинок в советском обществе. У него нет ни друзей, ни защитников. У него нет выхода. И в конце концов как логический выход — самоубийство. В целом спектакль оставляет какое-то подавленное, гнетущее впечатление. И покидая зал театра, невольно уносится мысль: «Какого прекрасного человека затравили!». Но кто?.. Создается впечатление, что Советская власть повинна в трагедии Маяковского» 54.
Любимов делал поправки, смягчал интонации, придумывал более оптимистический финал. Он уродовал спектакль, производя ту самую работу, к которой когда-то призывал Юрий Олеша на первом писательском съезде. Однако, в отличие от Олеши, режиссер не поэтизировал самоуничтожение. Он пытался сохранить свой голос любой ценой. И некоторое время ему это удавалось.
Он выработал свой принцип игры или социального поведения, который свидетельствовал о его незаурядном понимании внутренней механики родной власти. Каждый вел свою игру и имел свою маску. Ефремов играл в «социально близкого». Анатолий Эфрос занял позицию «чистого художника», к шалостям которого относились так, как секретарь райкома должен был бы относиться к причудам Моцарта. Товстоногов выстроил свою дальнобойную стратегию компромиссов, которые позволяли быть на плаву ему и его театру. Любимов занял особую вакансию — дерзкого художника, почти хулигана, который разрешает себе немыслимые вещи, потому как имеет в запасе какие-то тайные козыри. Расчет был опасный, но верный: в условиях всеобщего бараньего послушания вызывающе вести себя мог только человек, за которым кто-то стоял. И несколько раз в жизни этот «кто-то» бросал свою тень.
Впервые это произошло в апреле 1968 года, в разгар чешских событий и нового витка идеологического террора в Москве. В апреле 1968 годаЛюбимова решили удалить из театра. Была проведена необходимая артподготовка, отработанная до виртуозности: собрания общественности, газетная травля и наконец бюро райкома партии, которое предложило «укрепить руководство театра». Этим термином обозначались расправа с театрами и непокорными режиссерами. Вот тогда Любимов сыграл ва-банк: он написал письмо Брежневу, передал его через какого-то из своих либеральных покровителей из партийной среды. Из канцелярии «бровеносца в потемках» последовал спасительный звонок: работайте, мол, Юрий Петрович, не беспокойтесь. Не до конца ясны сейчас все пружины этой игры: может быть, Брежнев возрождал славную традицию спасительных звонков вождя опальным писателям (так сказать, проекция на звонок Сталина Булгакову или Пастернаку). Сталин, правда, звонил сам, а тут, как в пародии, дело ограничилось безымянной канцелярией (вполне в духе «коллективного руководства»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



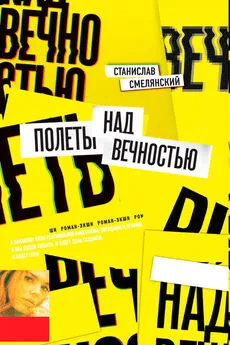

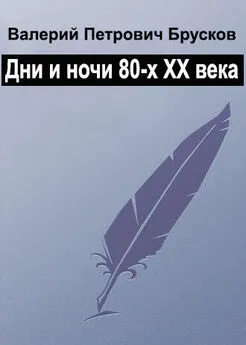
![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)

