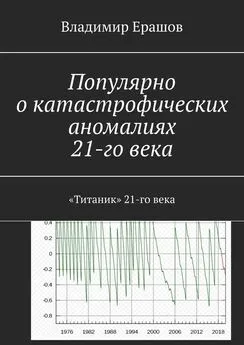Предлагаемые века - Смелянский, А.
- Название:Смелянский, А.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Предлагаемые века - Смелянский, А. краткое содержание
Смелянский, А. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Библейская символика и риторика были общим местом в искусстве тех, кто приветствовал революцию, но также и тех, кто мучительно искал религиозного смысла посланных испытаний. Маяковский пишет, а Мейерхольд ставит «Мистерию-буфф» — кощунственную перелицовку Книги Бытия на революционный лад. А Станиславский в это же время (весна 1920 года) ставит «Каина» Байрона и в своих режиссерских записях отождествляет ветхозаветного богоборца и братоубийцу с Лениным. В библейских параллелях он пытается найти разрешение современному кровопролитию, которое вскоре унесет в свою воронку не Авеля, а его родного брата 5.
Мифологизация революции, а потом и советской современности не могла быть выполнена с холодным сердцем. Очень часто крупнейшие художники в той или иной степени разделяли великую утопию и пытались облечь ее в библейские одежды. Высокие параллели давали возможность эстетического выживания, своего рода примирения с действительностью, в которой надо было открыть сокровенный план.
В тридцатые годы христианская окраска советских сюжетов — и «позитивная», и «негативная» — становится опасной. Новая идеология уже не нуждается в библейском освящении. Символическим актом разрыва с прежней культурой становится грандиозный акт взрыва храма Христа Спасителя в 1931 году. Надо понять, что уничтожение храма — это не только акт варварства, но и акт торжества новой культуры, утверждающей себя на развалинах культуры христианской 6. В театре или кинематографе происходили сходные вещи. Попытка Мейерхольда, незадолго до собственной гибели, сценически оформить мемуарную книгу Николая Островского «Как закалялась сталь» в тонах библейской притчи о герое-мученике гражданской войны решительно отбрасывается властью. Та же судьба постигла фильм Сергея Эйзенштейна «Бежин луг», в котором он попытался трактовать популярный тогда сюжет о Павлике Морозове, выдавшем своих родичей-кулаков новым властям и поплатившемся за это своей жизнью. Пропагандистский сюжет был увиден библейскими глазами. Убийство мальчика бородатыми, звероподобными кулаками трактовалось Эйзенштейном как история жертвоприношения. Новый мир предстал в образе святого отрока Исаака, жертвой которого должен удовлетвориться «старый мир» 7. Тот факт, что фильм был уничтожен, свидетельствует о том, как резко 20-е годы отделяются от 30-х. Сложная или взятая напрокат библейская образность — общее место послереволюционного искусства — в тридцатые годы становится неприемлемой. Эпоха оставляет взаперти свои главные книги и пьесы, ориентированные на библейский план: «Котлован» и «Чевенгур» Андрея Платонова, «Самоубийцу» Эрдмана, булгаковский «Бег» или его же роман «Мастер и Маргарита» (все эти вещи были задуманы или даже исполнены на рубеже 20-х и 30-х годов).
Крупнейшие режиссеры попытались идти и иным путем, приспосабливая свою прежнюю технику к новому социокультурному заданию. Излюбленные приемы барельефного театра, примененные Александром Таировым в постановке советских пьес, были призваны эстетически узаконить новую действительность. Кулаки и вредители двигались вдоль рампы, как персонажи египетских фресок. Психологическая техника Художественного театра, его несравненное умение исследовать подробности человеческой жизни на сцене в горьковских «Врагах», поставленных по совету Сталина в середине 30-х, должны были одушевить классовое задание, придать ему человеческую убедительность. И это делалось семидесятипятилетним Немировичем-Данченко на высочайшем техническом уровне.
В послевоенные годы ни для мифологического, ни для «технического» самообмана уже не было места. «Храмы» превратились в место бесстыдного торжища. Удушение далось нелегко. Театр пережил эпоху репрессий и эстетических погромов 20 — 30-х годов — и устоял. «Отелло» с Остужевым в Малом театре или «Король Лир» с Михоэлсом в Еврейском театре, «Ромео и Джульетта» с Марией Бабановой, «Дама с камелиями» у Мейерхольда, «Три сестры» у Немировича-Данченко, «Мадам Бовари» в постановке Александра Таирова в Камерном театре — эти спектакли предвоенного десятилетия были крупнейшими явлениями театрального искусства независимо от того, как они были связаны с новой идеологией (а они, конечно, были с ней связаны). Тут сохранялась еще автономность средств, техники, самого театрального языка, который противостоял одичанию и уравниловке. После войны удар был нанесен тотальный, по всему массиву культуры, в том числе по самим средствам — по языку театра, по его корневой основе. Несколько постановлений ЦК ВКП(б) («О репертуаре драматических театров», «О журнале «Звезда» и «Ленинград»), кампания конца 40-х годов против «космополитов», начавшая травлю и физическое уничтожение евреев — критиков, драматургов, актеров (Соломон Михоэлс был зверски убит в Минске в январе 1948 года), наконец, провозглашенная как руководство к действию знаменитая теория «бесконфликтности» (предполагалось, что конфликт в советской пьесе может быть только между хорошим и лучшим) — все это вместе прекращало существование театра как искусства, имеющего какую-то внутреннюю миссию и ответственного перед публикой.
Репрессивная волна, обрушившаяся на советский театр после войны, не была случайной. Сталинские идеологи уничтожали возможные последствия победоносной войны с фашизмом. Надо было немедленно вытравить в освободителях Европы независимый и гордый дух, способность к размышлению и даже к веселью. Победителю не дали ни на секунду расслабиться, вернуться в семью, окунуться в частную жизнь. Недаром же проработке подверглись не только Анна Ахматова, Михаил Зощенко или Андрей Платонов, но и так называемый легкий жанр, вроде «Копилки» Лабиша в Театре Советской Армии, «Новелл Маргариты Наваррской» в Малом или «Новогодней ночи» в Театре Вахтангова. Подвергалась испытанию психика художников. Мои старшие друзья в Художественном театре рассказывали, что на репетициях «Зеленой улицы» Сурова, одной из самых бездарных фальшивок, изготовленных на мхатовской сцене в 1948 году, Борис Ливанов, замечательный артист и друг Бориса Пастернака, едва начав репетицию, уже показывал режиссеру Михаилу Кедрову, ученику Станиславского, нарисованный на руке чернилами циферблат часов с застывшими на полдне стрелками и говорил сакраментальное: «Миша, пора!». Это значило, что открыто кафе «Артистическое» напротив МХАТа и надо немедленно принять свою «норму».
Театр, претендовавший на магическое воздействие, сам не мог существовать без наркотиков. Отсюда тотальное героическое пьянство, которое утвердилось тогда во многих крупнейших театрах как некая норма жизни. Это было не только бытовое явление — если хотите, вполне эстетическое. Принять этот образ жизни и существовать в этом театре можно было лишь в состоянии беспробудного оптимизма. Именно в таком состоянии Михаил Романов, крупнейший артист, работавший в Киевском театре имени Леси Украинки (сужу по рассказам Олега Борисова, романовского партнера тех лет), выходил иногда кланяться после «бесконфликтных» спектаклей. Каждый поклон зрителям он сопровождал довольно внятно сказанным: «Извините меня». Это и была последняя форма сопротивления артиста удушению театра.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)